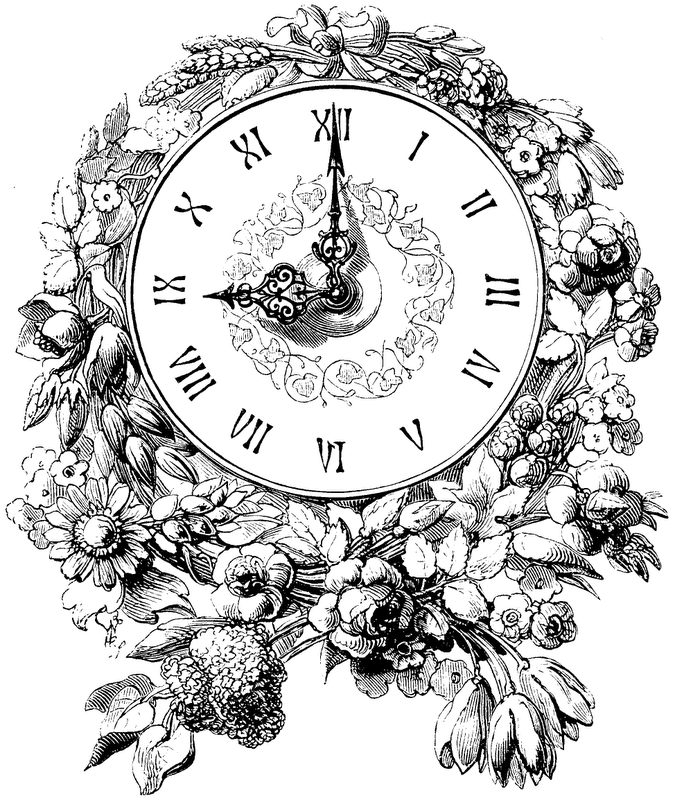Еврей был стар и уродлив. Татарин — молод и обаятелен. Еврей сутулился. Татарин мускулисто поигрывал гуттаперчево гибким станом. Голову еврея покрывала траурно-черная плошка кипы, из-под нее убежавшим тестом вытекали седые пейсы. Буйная кучерявая шевелюра татарина смоляно поблескивала на солнце.
в нашем инстаграм — Все пгавильно, — сильно картавя, говорил еврей. — Ваша гелигия пгебывает в стадии юности, а значит, экспансии. А мы затухаем и еле-еле поддегживаем скудно теплящийся огонек.
Они сидели на лавочке на берегу моря. Его оборочки плескались лижущими берег и отползавшими щенятами. День обещал выдаться жарким.
— Вы тоже некогда пребывали в состоянии экспансии, — отозвался паренек. — Истребили иевусеев, хеттеев…
Еврей с изумлением уставился на паренька, вовсе не похожего на хранителя редких исторических познаний.
— Когда душат, а деться некуда, приходится обороняться, сопротивляться, — словно оправдываясь, изрек он.
— В таком случае вам понятны наши нынешние обстоятельства, — горделиво заметил его собеседник.
Ненадолго оба замолчали. Каждый задумался о своем. Еврей — о том, что осталось недолго любоваться морским пейзажем. Юноша — о том, что счастливо заживет в купленном за смехотворную сумму доме.
— Я должен быть уверен, — вернулся к исходной точке их свидания еврей. — Моя дотошность не оскорбительна, люди бывают разные.
— Понимаю, — кивнул юноша. — Положу в банковскую ячейку и замкну в вашем присутствии.
Еврей оставил последнее слово за собой:
— До этого я должен пересчитать.
Паренек с нескрываемо тяжелым вздохом покосился на осторожничающего ветхозаветца. Тот уловил неприязненные флюиды и усмехнулся:
— Естественно, мы ведь скряги. Ростовщики, кровопийцы. Спаивали народ в шинках. Выжимали из замученного населения последние крохи. Вот и вас обдираю как липку.
— Нет, — вполне искренне сказал паренек. — Цена устраивает. Щадящая.
— В прекрасной Венеции, — продолжал старик, — любой мог подойти к еврею, а все евреи обязаны были носить малиновые береты, ошибиться было невозможно, и заколоть кинжалом или столкнуть в гнилую воду. За это убийцу не наказывали. Евреям запрещали иметь имущество, а давать деньги в рост считалось официальным преступлением. То есть мы были умышленно поставлены вне закона. Вот и живи: ничего не имея и никому ничего не отдавая на хранение.
— «Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» — пробормотал юноша. — Я, когда учился в школе, постоянно слышал о татаро-монгольском иге. Оно поработило на века титульную нацию. А еще мы всем классом читали о спящей царевне, где братья дружною толпою выезжают на забаву, чтоб отсечь татарину голову с широких плеч… Там еще и о том, как выманивает из леса пятигорского черкеса… «Венецианского купца» я штудировал позже, самостоятельно, и малиновые береты запомнил. Как и отличительные желтые звезды новой эпохи, — добавил он.
— А вот я не читал Шекспира, руки не дошли, не до того было. Правда, «Гамлета» в театре видел, — признался еврей.
— Предыстория такова, — поделился щедрой образованностью юноша. — В Англии еврей-лекарь не смог вылечить короля. За это его объявили отравителем и четвертовали. Шекспир не мог не откликнуться на громкую казнь, но от греха перенес действие своей пьесы в Венецию.
— Времена одинаковы, — обобщил старик. — Мой сосед по дому был врач, его тоже назвали отравителем. Вы не можете это помнить, а я долго хранил газеты со статьями о врачах-убийцах.
— Я в курсе, — лаконично отрезал юноша.
Они снова взяли паузу. Ветерок шевелил ветки акаций, обступивших лавку.
— Кто мог предположить, — нарушил паритетное равновесие старик, — что останусь один? Был инженером, конструировал космические ракеты. Заболела Софа, пришлось перебираться в целебный климат. Продали квартиру…
— Как же… Известно. Михоэлс просил Сталина учредить Еврейскую автономию в Крыму. Но вас турнули в Биробиджан.
— В другие бодрящие условия, — иронически подтвердил еврей. — Насколько знаю, Михоэлс просил не об этом. А чтоб не высылали, оставили в покое. Не удалось. Задавила машина. Но известно: последний русский царь гневался, если выезжал на конную прогулку по Ливадии и встречал кого-нибудь горбоносого.
— Моих деда и бабку отсюда, с этой обжитой нами земли, вот именно из этого, где мы сидим, селения, из этой каменистой почвы выковыряли, швырнули в грузовик, — вырвалось у паренька. — Здесь были наши виноградники.
Старик не принял упрека. Но в его взгляде мелькнула глубочайшая скорбь, и если бы неуступчивый оратор ее увидел, возможно, снизил бы градус обличения. Юноша припечатал:
— Хорошо вам жилось в наших садах?
Старик не мог решить, уместно ли заводить речь о личном, не касавшемся никого, кроме него самого: получалась жалоба. Жаловаться он не хотел. Поэтому прибег к максимальной нейтральности.
— Ее семья была из Киева. Все пропали в Бабьем Яге. Мои — из Белоруссии. Все там сгинули. Дело случая, что я и Софа избежали общей трагедии. Разумеется, я не думал, когда перебирался сюда, что еду на чье-то место.
— Пепелище! — безжалостно перебил молодой человек. — Тут был оазис, взращенный моими предками. Благодатные пенаты. Я их возрожу. Построю заново. Старые стены впитывают карму посторонних судеб.
— Было не пепелище, — возразил старик. — Жили жизнерадостные люди. Вчетвером они хотели в столицу. У них были дети. А у нас не было. Их лачуга нам вполне подходила. Мы вложили много труда…
— Теперь — в жаркие страны? На родину Моисея? — миролюбиво, но холодно сменил тему паренек.
— Не доехать. Годы… Да и куда от Софы? Она тут, неподалеку. Навещаю, приношу цветочки. Богадельня, куда определился, тоже рядом с кладбищем. Удобно. Тех денег, что получу от вас, хватит на отдельную комнату. Я привык к одиночеству…
Мужественный тон, которым это было исторгнуто, устроил парнишку.
— Тоже не хочу посторонних, — по-своему истолковал он откровение старика.
Разделявший их портфель стоял на лавочке. Облезлый, потертый, из кожзаменителя. Паренек его открыл, щелкнув никелированными тусклыми замочками. Внутри лежали перетянутые ленточкой тугие пачки.
— А впрочем, не буду пересчитывать, — неожиданно изменил намерения старик. — Слишком муторно и долго. Нервы на пределе. Пойдем сразу в банк.
Юноша пожал плечами и нетерпеливо поднялся со скамьи. Он казался старику надменным гарцующим скакуном. Старик кряхтеньем старался заглушить поскрипывание собственных суставов. Однако чуткое ухо паренька уловило невизуальное свидетельство телесной немощи.
— В ранние годы будущее не представлялось безоблачным, — распрямившись, подытожил старик и покосился на горизонт, где курчавились тучки. — Но все же не таким, как получилось. Не хотели брать на работу. Вот такие же были у начальников портфели. Мыкался по отделам кадров. Надо мной потешались. Нигде не пришелся ко двору. Устроился сторожем. Потом написал диссертацию за директора. Он помог. Перевел в младшие научные. Я и дальше за него писал, у каждого пана есть свой янкель…
— Дедушкин, храню как память, — не стал вдаваться в тягостный наворот чужих обид паренек. — В этом портфеле он увез то, что успел, что позволили взять: документы, фотографии. Коран бросили в костер. Вещи и старинные книги изорвали… Портфель — память.
— Не знаю, что делать с вещами и бумагами. Некому оставлять, — излил свою заботу старик.
Они двинулись по каменистой дорожке. Юноша в джинсах и легких мокасинах шагал, едва касаясь гравия, старик тащился, еле поспевая за иноходцем.
— Это ж надо, — бубнил он. — Кожзаменитель. Гениальное изобретение. А то ведь сдирали кожу с живых и обтягивали портсигары и абажуры. В Треблинке за восемь месяцев уничтожили восемьсот тысяч человек.
Он прикидывал: был ли кожзам до войны? Или возник — ответом на ужасные абажуры и портмоне?
Юноша не слышал его слов и сомнений.
— До войны обожал абажуры, — шамкал старик. — Символ уюта…
Еврей был стар и уродлив. Татарин — молод и обаятелен. Еврей сутулился. Татарин мускулисто поигрывал гуттаперчево гибким станом. Голову еврея покрывала траурно-черная плошка кипы, из-под нее убежавшим тестом вытекали седые пейсы. Буйная кучерявая шевелюра татарина смоляно поблескивала на солнце. Алексей Меринов. Свежие картинки в нашем инстаграм — Все пгавильно, — сильно картавя, говорил еврей. — Ваша гелигия пгебывает в стадии юности, а значит, экспансии. А мы затухаем и еле-еле поддегживаем скудно теплящийся огонек. Они сидели на лавочке на берегу моря. Его оборочки плескались лижущими берег и отползавшими щенятами. День обещал выдаться жарким. — Вы тоже некогда пребывали в состоянии экспансии, — отозвался паренек. — Истребили иевусеев, хеттеев… Еврей с изумлением уставился на паренька, вовсе не похожего на хранителя редких исторических познаний. — Когда душат, а деться некуда, приходится обороняться, сопротивляться, — словно оправдываясь, изрек он. — В таком случае вам понятны наши нынешние обстоятельства, — горделиво заметил его собеседник. Ненадолго оба замолчали. Каждый задумался о своем. Еврей — о том, что осталось недолго любоваться морским пейзажем. Юноша — о том, что счастливо заживет в купленном за смехотворную сумму доме. — Я должен быть уверен, — вернулся к исходной точке их свидания еврей. — Моя дотошность не оскорбительна, люди бывают разные. — Понимаю, — кивнул юноша. — Положу в банковскую ячейку и замкну в вашем присутствии. Еврей оставил последнее слово за собой: — До этого я должен пересчитать. Паренек с нескрываемо тяжелым вздохом покосился на осторожничающего ветхозаветца. Тот уловил неприязненные флюиды и усмехнулся: — Естественно, мы ведь скряги. Ростовщики, кровопийцы. Спаивали народ в шинках. Выжимали из замученного населения последние крохи. Вот и вас обдираю как липку. — Нет, — вполне искренне сказал паренек. — Цена устраивает. Щадящая. — В прекрасной Венеции, — продолжал старик, — любой мог подойти к еврею, а все евреи обязаны были носить малиновые береты, ошибиться было невозможно, и заколоть кинжалом или столкнуть в гнилую воду. За это убийцу не наказывали. Евреям запрещали иметь имущество, а давать деньги в рост считалось официальным преступлением. То есть мы были умышленно поставлены вне закона. Вот и живи: ничего не имея и никому ничего не отдавая на хранение. — «Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» — пробормотал юноша. — Я, когда учился в школе, постоянно слышал о татаро-монгольском иге. Оно поработило на века титульную нацию. А еще мы всем классом читали о спящей царевне, где братья дружною толпою выезжают на забаву, чтоб отсечь татарину голову с широких плеч… Там еще и о том, как выманивает из леса пятигорского черкеса… «Венецианского купца» я штудировал позже, самостоятельно, и малиновые береты запомнил. Как и отличительные желтые звезды новой эпохи, — добавил он. — А вот я не читал Шекспира, руки не дошли, не до того было. Правда, «Гамлета» в театре видел, — признался еврей. — Предыстория такова, — поделился щедрой образованностью юноша. — В Англии еврей-лекарь не смог вылечить короля. За это его объявили отравителем и четвертовали. Шекспир не мог не откликнуться на громкую казнь, но от греха перенес действие своей пьесы в Венецию. — Времена одинаковы, — обобщил старик. — Мой сосед по дому был врач, его тоже назвали отравителем. Вы не можете это помнить, а я долго хранил газеты со статьями о врачах-убийцах. — Я в курсе, — лаконично отрезал юноша. Они снова взяли паузу. Ветерок шевелил ветки акаций, обступивших лавку. — Кто мог предположить, — нарушил паритетное равновесие старик, — что останусь один? Был инженером, конструировал космические ракеты. Заболела Софа, пришлось перебираться в целебный климат. Продали квартиру… — Как же… Известно. Михоэлс просил Сталина учредить Еврейскую автономию в Крыму. Но вас турнули в Биробиджан. — В другие бодрящие условия, — иронически подтвердил еврей. — Насколько знаю, Михоэлс просил не об этом. А чтоб не высылали, оставили в покое. Не удалось. Задавила машина. Но известно: последний русский царь гневался, если выезжал на конную прогулку по Ливадии и встречал кого-нибудь горбоносого. — Моих деда и бабку отсюда, с этой обжитой нами земли, вот именно из этого, где мы сидим, селения, из этой каменистой почвы выковыряли, швырнули в грузовик, — вырвалось у паренька. — Здесь были наши виноградники. Старик не принял упрека. Но в его взгляде мелькнула глубочайшая скорбь, и если бы неуступчивый оратор ее увидел, возможно, снизил бы градус обличения. Юноша припечатал: — Хорошо вам жилось в наших садах? Старик не мог решить, уместно ли заводить речь о личном, не касавшемся никого, кроме него самого: получалась жалоба. Жаловаться он не хотел. Поэтому прибег к максимальной нейтральности. — Ее семья была из Киева. Все пропали в Бабьем Яге. Мои — из Белоруссии. Все там сгинули. Дело случая, что я и Софа избежали общей трагедии. Разумеется, я не думал, когда перебирался сюда, что еду на чье-то место. — Пепелище! — безжалостно перебил молодой человек. — Тут был оазис, взращенный моими предками. Благодатные пенаты. Я их возрожу. Построю заново. Старые стены впитывают карму посторонних судеб. — Было не пепелище, — возразил старик. — Жили жизнерадостные люди. Вчетвером они хотели в столицу. У них были дети. А у нас не было. Их лачуга нам вполне подходила. Мы вложили много труда… — Теперь — в жаркие страны? На родину Моисея? — миролюбиво, но холодно сменил тему паренек. — Не доехать. Годы… Да и куда от Софы? Она тут, неподалеку. Навещаю, приношу цветочки. Богадельня, куда определился, тоже рядом с кладбищем. Удобно. Тех денег, что получу от вас, хватит на отдельную комнату. Я привык к одиночеству… Мужественный тон, которым это было исторгнуто, устроил парнишку. — Тоже не хочу посторонних, — по-своему истолковал он откровение старика. Разделявший их портфель стоял на лавочке. Облезлый, потертый, из кожзаменителя. Паренек его открыл, щелкнув никелированными тусклыми замочками. Внутри лежали перетянутые ленточкой тугие пачки. — А впрочем, не буду пересчитывать, — неожиданно изменил намерения старик. — Слишком муторно и долго. Нервы на пределе. Пойдем сразу в банк. Юноша пожал плечами и нетерпеливо поднялся со скамьи. Он казался старику надменным гарцующим скакуном. Старик кряхтеньем старался заглушить поскрипывание собственных суставов. Однако чуткое ухо паренька уловило невизуальное свидетельство телесной немощи. — В ранние годы будущее не представлялось безоблачным, — распрямившись, подытожил старик и покосился на горизонт, где курчавились тучки. — Но все же не таким, как получилось. Не хотели брать на работу. Вот такие же были у начальников портфели. Мыкался по отделам кадров. Надо мной потешались. Нигде не пришелся ко двору. Устроился сторожем. Потом написал диссертацию за директора. Он помог. Перевел в младшие научные. Я и дальше за него писал, у каждого пана есть свой янкель… — Дедушкин, храню как память, — не стал вдаваться в тягостный наворот чужих обид паренек. — В этом портфеле он увез то, что успел, что позволили взять: документы, фотографии. Коран бросили в костер. Вещи и старинные книги изорвали… Портфель — память. — Не знаю, что делать с вещами и бумагами. Некому оставлять, — излил свою заботу старик. Они двинулись по каменистой дорожке. Юноша в джинсах и легких мокасинах шагал, едва касаясь гравия, старик тащился, еле поспевая за иноходцем. — Это ж надо, — бубнил он. — Кожзаменитель. Гениальное изобретение. А то ведь сдирали кожу с живых и обтягивали портсигары и абажуры. В Треблинке за восемь месяцев уничтожили восемьсот тысяч человек. Он прикидывал: был ли кожзам до войны? Или возник — ответом на ужасные абажуры и портмоне? Юноша не слышал его слов и сомнений. — До войны обожал абажуры, — шамкал старик. — Символ уюта… Андрей Яхонтов Опубликован в газете