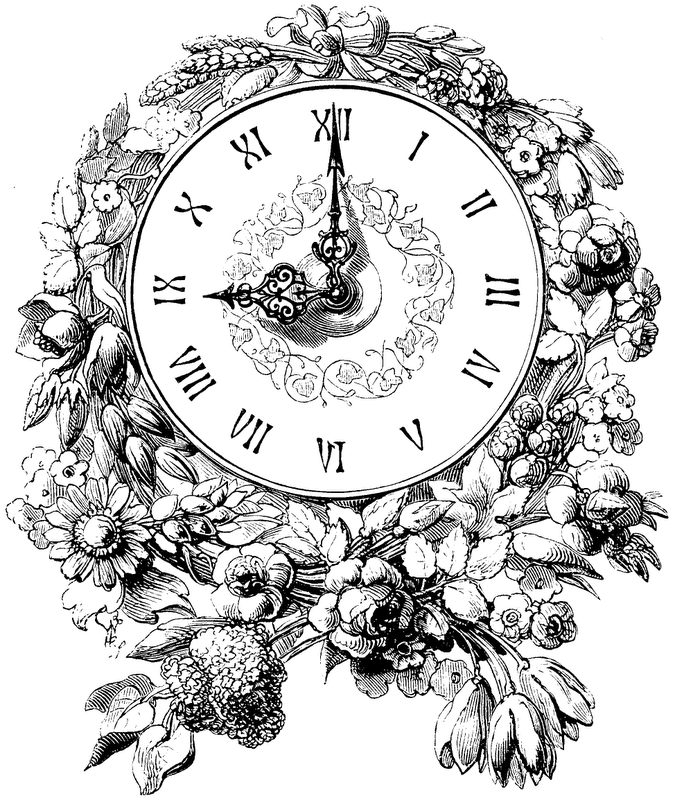«Спешите видеть!» — этот архаичный зазывный клич, вербовавший-заманивавший зрителей на диковинные ярмарочные представления, впору выкрикнуть сегодня — в мировом масштабе.
Спешите видеть — исчезающие с лица планеты архитектурные, скульптурные, живописные шедевры. Их штучное, эксклюзивное наличие катастрофически истаивает. Ярчайшая примета — Нотр-Дам. А до того — Пальмира. А еще — многострадально изорванный «Иван Грозный и сын его Иван». Дикари ХХI века подхватили эстафету сжигания на кострах книг и бомбардировок невосстановимых памятников. Уничтожения культуры. Но ослабевала ли когда-нибудь эта атака?
в нашем инстаграм Гибель
Фаина Раневская поделилась наблюдением о памятнике Пушкину на одноименной площади: «Он так (в такой позе) не стоял».
Действительно, слишком пафосная, величественная в своей монументальности фигура. В то время как реально был невеликоросл и картинных выспренностей (согласно мемуарам) не допускал, величавости и велеречивости избегал. Напротив, являлся апологетом простоты (иногда чрезмерной).
Но вспомним строки: «И долго буду тем любезен я народу…» или «Я памятник себе воздвиг…».
Идеально отвечает возведенный в центре столицы (надменный, хотя и задумчивый) монумент этим неосторожным, нескромным излияниям.
Сравним «вознесение непокорной главы» с утлым, втянувшим голову в плечи мандельштамовским: «Вот потому эта улица, или точней, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама», приплюсуем еще и цветаевское: «Ты ищешь дом, в котором родилась я — или/В котором я умру».
Какое из предвидений и предчувствований скромнее, симпатичнее, смиреннее и христианнее? Где более созвучия вашей душе: в нелукавом самоуничижении или знающем себе цену самовозвеличивании? Это решать и выбирать каждому в соответствии с вектором своей судьбы — ибо убийственный финал трех поэтов, воплотившийся в гордом монументе посреди Москвы, яме, где сгинул труп, и елабужской петле — оказался одинаков.
Непобедимая
Понавытаскивали о Фаине Раневской небылиц, которые она явно не произносила, достаточно почитать ее собственные записи. В чем, в чем, а в непошлости и утонченном эстетическом вкусе великой актрисе не откажешь. Зато действительно ярчайшие драматические подробности ее биографии остаются за кадром, в тени, а то и в кромешной темноте, которой специально окутывали зрительный театральный зал, чтобы вывезти старенькую исполнительницу своей последней роли на сцену в кресле-каталке. Уже не могла ходить, с трудом передвигалась, но, при включенном освещении, произносила потрясающие монологи. Оставалась непобедимой (смертью) в своей профессии. И когда, уже после спектакля, в фойе и гардеробе звучали в записи на пленку эти ее монологи (из пьесы «Дальше — тишина» или «Уступи место завтрашнему дню»), зрители не могли сдержать слез.
Вещность и вечность
Произведения искусства на протяжении веков фиксируют малую склонность человеческой натуры к каким-либо изменениям. Исторические реалии в этих произведениях резко разнятся, запечатленные бытовые подробности четко указывают на временную притороченность, а вот люди (их психология, поведенческие мотивы) медлительно статичны (в своем мнимом развитии). Лозунги формирования новой личности невоплотимы и напрямую опровергаются Михаилом Булгаковым в «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите». Этот роман не мог быть создан ни в наши дни, ни в пушкинскую эпоху, а точно соотносится с периодом радостного воинствующего коммунистического атеизма, при этом вполне созвучен нынешнему состоянию умов, ибо насмешничает (так же как «Котлован» Андрея Платонова) над трубно провозглашенным призывом создать, вылепить идеального гражданина.
Сегодня можем свысока (и с высоты нашего государственного опыта) посмеиваться над социальным экспериментом, ввергшим страну и «неперевоспитуемого обывателя» в поистине воландовский (сталинский, ленинский и т.д.) ужас перевоссоздания бытия, которое портят то «квартирный вопрос», то «частнособственнические инстинкты», то «олигархические козни». Зато «религиозный нерв» и дьявольские соблазны, сбивающие с пути всевозможных Варенух и Берлиозов, не претерпели бы серьезных метаморфоз, если бы Булгаков лепил свое произведение из глины ХХI века: сатирические персонажи перелицевались бы весьма незначительно. А Крысобои и Понтии Пилаты остались бы вовсе неизменными. Как и фантасмагорические Коровьев и кот Бегемот.
Вечной, таким образом, пребывает не «вещная» фактура, а эфемерная неуловимость, неконъюнктурность, неактуальность, она подспудно теплится в характерах антиинквизиционного Тиля Уленшпигеля или незадачливых Тома Сойера и Гекльберри Финна. Поиск невещественной «настоящести» — доминанта, движущая сюжеты и вращающая миры художественных смыслов. У «Божественной комедии», «Илиады», «Ифигении в Авлиде» — не только привкус архаики (сам по себе не отторгающий, мы ведь ценим антиквариат), а еще и привкус вечности. Стойкое ощущение: эти произведения (как и книги Диккенса, Тургенева, Гончарова, Гоголя, Теккерея) существовали всегда, еще до зарождения мира, и лишь ждали своего часа, чтобы явиться — в типографском исполнении.
Ну а фарс «Москва—Петушки» — мог ли быть создан Венедиктом Ерофеевым вне социального контекста, внутри которого писался? Опять-таки: вещественно-конкретные детали вроде коктейля «Слеза комсомолки» не характерны ни для предшествовавшей несатирической (в силу политических обстоятельств) поры, ни для сегодняшней, когда в ходу настойка боярышника.
По этой же «реалистической» причине улетучивается популярность Владимира Высоцкого. Он был романтик — возможно, последний из скукоживающейся рациональной словесности: «За меня невеста отрыдает честно…» Да, женщинам свойственны эмоциональные всплески, порывы, мерихлюндии. «За меня ребята отдадут долги». Звучит проблематично: где и кто сегодня раздобудет деньги на чужие нужды, хоть бы и посмертные? А «выпьют за меня враги» — и вовсе несбыточность. (Сравним с окуджавским: «Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта» — ныне эта гипербола даже метафорически не канает.) Благородство, уважение к противнику — атавизм и анахронизм, когда все средства хороши, чтобы урыть соперника и отплясывать на его могиле.
Христианство не в тренде, верх берут принципы джихада.
Мечтатель (еще какой: «Парня в горы тяни, рискни…») был отчасти продолжателем Александра Грина, сумасшедше популярного в советские годы. Да и вся литература советской поры — избыточно прекраснодушна, иллюзорна и детски наивна — начиная с «Железного потока» Серафимовича и кончая оппозиционным «Ожогом» Василия Аксенова: бред — тратиться на алые паруса, нужны яхты достойного антуража и внушительного водоизмещения.
Высокие устремления — блажь, донкихотство, отстой. Постулат иной: высокие цели — высокие цены.
Когда господствует такая олигархическая философия, нечего ждать значимых свершений всечеловеческого масштаба, ибо главенствуют мелочи, а не воспаряющая одержимость, пренебрегающая пошлыми постулатами выгоды.
«Спешите видеть!» — этот архаичный зазывный клич, вербовавший-заманивавший зрителей на диковинные ярмарочные представления, впору выкрикнуть сегодня — в мировом масштабе. Спешите видеть — исчезающие с лица планеты архитектурные, скульптурные, живописные шедевры. Их штучное, эксклюзивное наличие катастрофически истаивает. Ярчайшая примета — Нотр-Дам. А до того — Пальмира. А еще — многострадально изорванный «Иван Грозный и сын его Иван». Дикари ХХI века подхватили эстафету сжигания на кострах книг и бомбардировок невосстановимых памятников. Уничтожения культуры. Но ослабевала ли когда-нибудь эта атака? Алексей Меринов. Свежие картинки в нашем инстаграм Гибель Фаина Раневская поделилась наблюдением о памятнике Пушкину на одноименной площади: «Он так (в такой позе) не стоял». Действительно, слишком пафосная, величественная в своей монументальности фигура. В то время как реально был невеликоросл и картинных выспренностей (согласно мемуарам) не допускал, величавости и велеречивости избегал. Напротив, являлся апологетом простоты (иногда чрезмерной). Но вспомним строки: «И долго буду тем любезен я народу…» или «Я памятник себе воздвиг…». Идеально отвечает возведенный в центре столицы (надменный, хотя и задумчивый) монумент этим неосторожным, нескромным излияниям. Сравним «вознесение непокорной главы» с утлым, втянувшим голову в плечи мандельштамовским: «Вот потому эта улица, или точней, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама», приплюсуем еще и цветаевское: «Ты ищешь дом, в котором родилась я — или/В котором я умру». Какое из предвидений и предчувствований скромнее, симпатичнее, смиреннее и христианнее? Где более созвучия вашей душе: в нелукавом самоуничижении или знающем себе цену самовозвеличивании? Это решать и выбирать каждому в соответствии с вектором своей судьбы — ибо убийственный финал трех поэтов, воплотившийся в гордом монументе посреди Москвы, яме, где сгинул труп, и елабужской петле — оказался одинаков. Непобедимая Понавытаскивали о Фаине Раневской небылиц, которые она явно не произносила, достаточно почитать ее собственные записи. В чем, в чем, а в непошлости и утонченном эстетическом вкусе великой актрисе не откажешь. Зато действительно ярчайшие драматические подробности ее биографии остаются за кадром, в тени, а то и в кромешной темноте, которой специально окутывали зрительный театральный зал, чтобы вывезти старенькую исполнительницу своей последней роли на сцену в кресле-каталке. Уже не могла ходить, с трудом передвигалась, но, при включенном освещении, произносила потрясающие монологи. Оставалась непобедимой (смертью) в своей профессии. И когда, уже после спектакля, в фойе и гардеробе звучали в записи на пленку эти ее монологи (из пьесы «Дальше — тишина» или «Уступи место завтрашнему дню»), зрители не могли сдержать слез. Вещность и вечность Произведения искусства на протяжении веков фиксируют малую склонность человеческой натуры к каким-либо изменениям. Исторические реалии в этих произведениях резко разнятся, запечатленные бытовые подробности четко указывают на временную притороченность, а вот люди (их психология, поведенческие мотивы) медлительно статичны (в своем мнимом развитии). Лозунги формирования новой личности невоплотимы и напрямую опровергаются Михаилом Булгаковым в «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите». Этот роман не мог быть создан ни в наши дни, ни в пушкинскую эпоху, а точно соотносится с периодом радостного воинствующего коммунистического атеизма, при этом вполне созвучен нынешнему состоянию умов, ибо насмешничает (так же как «Котлован» Андрея Платонова) над трубно провозглашенным призывом создать, вылепить идеального гражданина. Сегодня можем свысока (и с высоты нашего государственного опыта) посмеиваться над социальным экспериментом, ввергшим страну и «неперевоспитуемого обывателя» в поистине воландовский (сталинский, ленинский и т.д.) ужас перевоссоздания бытия, которое портят то «квартирный вопрос», то «частнособственнические инстинкты», то «олигархические козни». Зато «религиозный нерв» и дьявольские соблазны, сбивающие с пути всевозможных Варенух и Берлиозов, не претерпели бы серьезных метаморфоз, если бы Булгаков лепил свое произведение из глины ХХI века: сатирические персонажи перелицевались бы весьма незначительно. А Крысобои и Понтии Пилаты остались бы вовсе неизменными. Как и фантасмагорические Коровьев и кот Бегемот. Вечной, таким образом, пребывает не «вещная» фактура, а эфемерная неуловимость, неконъюнктурность, неактуальность, она подспудно теплится в характерах антиинквизиционного Тиля Уленшпигеля или незадачливых Тома Сойера и Гекльберри Финна. Поиск невещественной «настоящести» — доминанта, движущая сюжеты и вращающая миры художественных смыслов. У «Божественной комедии», «Илиады», «Ифигении в Авлиде» — не только привкус архаики (сам по себе не отторгающий, мы ведь ценим антиквариат), а еще и привкус вечности. Стойкое ощущение: эти произведения (как и книги Диккенса, Тургенева, Гончарова, Гоголя, Теккерея) существовали всегда, еще до зарождения мира, и лишь ждали своего часа, чтобы явиться — в типографском исполнении. Ну а фарс «Москва—Петушки» — мог ли быть создан Венедиктом Ерофеевым вне социального контекста, внутри которого писался? Опять-таки: вещественно-конкретные детали вроде коктейля «Слеза комсомолки» не характерны ни для предшествовавшей несатирической (в силу политических обстоятельств) поры, ни для сегодняшней, когда в ходу настойка боярышника. По этой же «реалистической» причине улетучивается популярность Владимира Высоцкого. Он был романтик — возможно, последний из скукоживающейся рациональной словесности: «За меня невеста отрыдает честно…» Да, женщинам свойственны эмоциональные всплески, порывы, мерихлюндии. «За меня ребята отдадут долги». Звучит проблематично: где и кто сегодня раздобудет деньги на чужие нужды, хоть бы и посмертные? А «выпьют за меня враги» — и вовсе несбыточность. (Сравним с окуджавским: «Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта» — ныне эта гипербола даже метафорически не канает.) Благородство, уважение к противнику — атавизм и анахронизм, когда все средства хороши, чтобы урыть соперника и отплясывать на его могиле. Христианство не в тренде, верх берут принципы джихада. Мечтатель (еще какой: «Парня в горы тяни, рискни…») был отчасти продолжателем Александра Грина, сумасшедше популярного в советские годы. Да и вся литература советской поры — избыточно прекраснодушна, иллюзорна и детски наивна — начиная с «Железного потока» Серафимовича и кончая оппозиционным «Ожогом» Василия Аксенова: бред — тратиться на алые паруса, нужны яхты достойного антуража и внушительного водоизмещения. Высокие устремления — блажь, донкихотство, отстой. Постулат иной: высокие цели — высокие цены. Когда господствует такая олигархическая философия, нечего ждать значимых свершений всечеловеческого масштаба, ибо главенствуют мелочи, а не воспаряющая одержимость, пренебрегающая пошлыми постулатами выгоды. Андрей Яхонтов Опубликован в газете