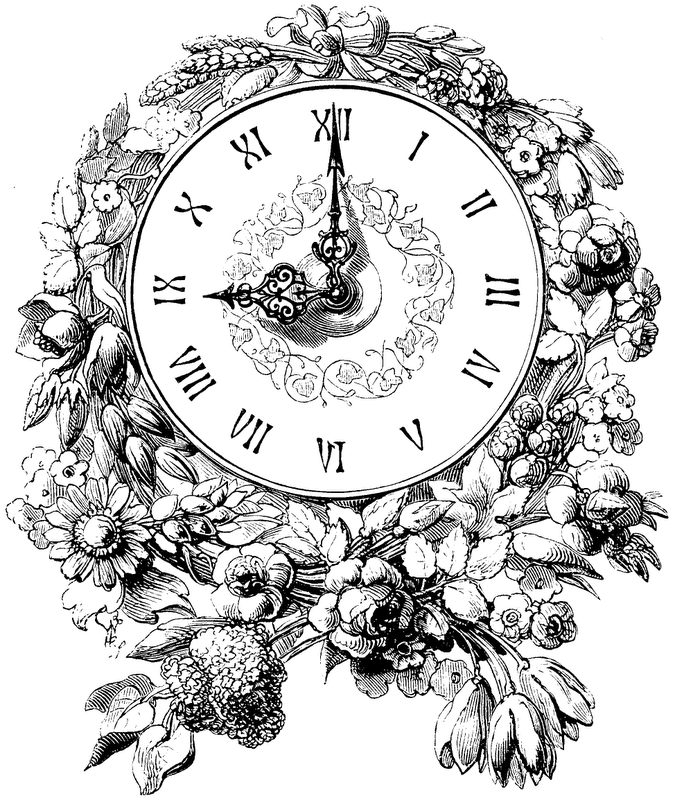Поэт Дмитрий Лайус, как водится в России, больше чем поэт. А еще переводчик со шведского и испанского, и психолог-консультант. Однако поэзия остается для него константой жизни. Дмитрий любит цитировать Иннокентия Анненского, который утверждал, что до тридцати издавать свои стихи не стоит. Вот и в свои 29 наш герой публикуется в Сети и выступает на поэтических вечерах в уютных кафе Москвы и Петербурга. Две враждующие столицы сошлись в его творчестве и жаждут примирения. Как же обрести слово молодому поэту, и что такое поэзия? Об этом Дмитрий Лайус рассказал в интервью «МК».
«В начале было что-то совсем попсовое»
— Как бы ты определил свою поэзию?
— Собственную интерпретацию можно оставить другим людям и самому туда не лезть. Я думаю творчество — прежде всего, путь к самому себе. Ведь всякий, кто пробует писать, начинает в той или иной степени с подражания. Если попросить любого, кто поэзией не занимается придумать стихи, то это будет Пушкин, Бродский, Блок, кто угодно, только не сам автор. Изменения поэтические — это рост в сторону себя.
ничто не чтит ни свет ни слово
¿так почему так много в нем
очарования чужого
числом несомого и сном?
¡как цельна цель!
а центр-целитель который раз спасает нас
¿но снова мне вовне не выйти ль
продолжив бедствий свой рассказ?
сомненья метят мимо мира
деревья держат древность дня
своя у человека сила
соединять тебя меня
— Ты тоже начинал с подражания?
— В общем, да. В самом начале это было что-то совсем попсовое, типа Бродского. Сильное впечатление на меня произвели стихи Блока, но тут подражание было в меньшей степени. В последние годы меня привлекают — Рильке, Тракль, Гельдерлин, Лорка, Верлен в поэзии и Бодлер в прозе. Но самое сильное влияние — это Мандельштам.
— Интересно, что ты упомянул Мандельштама. Ведь он входит в так называемую большую четверку великих поэтов двадцатого века вместе с Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком, но, как правило, остается в тени последних. Почему именно Мандельштам на тебя так повлиял?
— Лет через пятьдесят речь ни о какой «большой четверке» не будет идти. Будут говорить о веке Мандельштама как о веке Пушкина. Там тоже есть Веневитинов, Лермонтов, кто-нибудь, но есть Пушкин. То же самое будет с Мандельштамом. Пастернак, Цветаева, Ахматова — они, мне кажется, Мандельштаму в подметки не годятся. Мандельштам — единственный из них, кто объединяет Москву с Петербургом, как и Пушкин. Это два полюса русской культуры, которые необходимы друг для друга, и недостаточно одного из них. Нужна и культурная петербургская каноничность, и московская расхлябанность, смешение. Пастернак с Цветаевой талантливы, но у них часто не хватает вкуса. Кто-то написал, что «Мандельштам — единственный поэт, умеющий выбирать». Цветаева с Пастернаком этого не умели. Ахматова слишком петербургская, как писал Кушнер: «петербуржцы застегнуты на все пуговицы». Ничего сравнимого с Мандельштамом в русской поэзии нет. Это невероятная работа над словом и фонетика: «Когда я наполнился морем – / Мором стала мне мера моя...» Это мне очень близко и это очень сильно.
«Сложно говорить о поэзии, если ты не говоришь минимум на трех языках»
— А противостояние Москвы и Питера в поэзии есть до сих пор?
— Для меня теперь это скорее диалог. Я, конечно, петербуржец, но четыре года прожил в Москве. Довольно хорошо ее знаю. Тут все отличается от Петербурга: и речь, и жизнь, и ориентиры. Конечно, за последние сто лет Петербург сильно потерял во всем. Ну и потом еще Москва выдавливала из него все, что можно, та же Блокада Ленинграда, которая для меня до сих пор очень актуальная тема. Ну и из Питера уезжают либо в Москву, либо на Запад. Очень сильно отличаются и литературные круги. Если в Москве — это, прежде всего, показ и гораздо больше всего, то в Петербурге после Хармса в поэзии ничего не сделано. Бродский для меня ничего не значит как поэт, хотя многие могут поспорить.
— Так диалог двух столиц возможен?
— Без этого диалога русская культура невозможна. Как писала Надежда Мандельштам: «Петербурга недостаточно», но и одной Москвы недостаточно. В Москве много всего есть, но целостности там не хватает. В Петербурге, напротив, до сих пор очень много консерватизма, который в Москве все-таки изжит. Например, что поэзия — это только что-то в рифму. В Москве не так обязательна образованность, и бывают люди талантливые, но не образованные. Условно: сложно говорить о поэзии, если ты не говоришь минимум на трех языках, потому что без этого ты не можешь почувствовать свой собственный язык.
— Сколько языков ты знаешь?
— Свободно говорю, пишу, читаю по-английски, по-французски, по-немецки, могу переводить со шведского, испанского, сложнее с итальянского, древнегреческого и латинского. Если ты занимаешься поэзией, то нельзя читать переводы, потому что это такая смерть, такой ад, все переводы, классические, любые. Хотя перевод есть, конечно, основание литературы. Именно литературы, потому что поэзия — это не литература. В смысле именно такой культурности и вторичности, потому что литература — слово римское, и вторично по отношению к поэзии, которая слово — греческое. И поэзия в переводах не очень нуждается. В этом смысле перевод очень интересная вещь. Это всегда расширение языка, но всегда стоит понимать, что перевод хуже оригинала.
— У тебя есть переводы со шведского и испанского. Согласен ли ты с Жуковским, что «переводчик в прозе — раб, а в поэзии — соперник»?
— Мне кажется, и в прозе отчасти соперник. Не такая большая разница в переводе — проза или поэзия. Это такой синтез. Не люблю филологизмы в переводе. Они усложняют оригинал, и важно делать перевод всегда более простым.
Стихотворение Allegro Тумаса Транстремера (перевод со шведского Дмитрия Лайуса)
Allegro
Играю Гайдна вечером черного дня
и простое тепло ощущаю руками.
Желают клавиши. Бьют маленькие молоточки.
Музы`ка зелена, жива, спокойна.
Музы`ка говорит, что есть свобода
и есть кто-то кто не платит по счетам.
Роюсь руками в моих карманах Гайдна
и будто бы смотрю на мир спокойно.
Поднимаю флаги Гайдна — это значит:
«Мы не сдаемся. Но желаем мира.»
Музы`ка есть парник на склоне
там камни пролетают, камни катятся.
И камни катятся насквозь
но каждое окно теплицы цело.
«Для поэзии нужно некоторое уединение»
— От многих молодых поэтов приходится слышать, что они стараются мало читать своих коллег, боясь повториться. Тебе интересны стихи современных авторов?
— Для меня — все наоборот. Если я не буду читать, я гораздо больше повторюсь. Это разные активности: чтение и писание. Поэзия — скорее устный жанр, то есть слушание и говорение. Я читаю современных поэтов, просматриваю даже иногда толстые журналы, если есть время и желание, но, к сожалению, там очень сложно выловить что-то толковое. Чем дольше ты с поэзией связан, тем меньше тебя можно удивить. Вообще понятие современность, как Бодлер писал, очень нагруженное. Для меня Мандельштам современнее, чем кто-нибудь из соседнего ЖЖ или Контакта. Раньше я много посещал всякие литературные собрания, но сейчас перестал это делать, там довольно противное общество. Из современных поэтов нравится тот же Воденников, Веденяпин. С Веденяпиным я знаком, мы в хороших отношениях, но опять же то, что он в последнее время делает, мне не очень нравится. Есть еще поэт Михаил Кукин. У него есть клуб «Культурное дело». Название, конечно, пафосное и безвкусное, но туда, бывает, приходят хорошие люди, и сам он тоже мне вполне интересен.
— А что тебя вдохновило писать стихи?
— Для меня важным опытом были поездки из дома до гимназии, начиная с десяти лет. Я ехал в общественном транспорте час где-то. Я то спал, то читал. Это было такое большое время уединения, которое во многом повлияло на меня. Первые свои стихи писал именно там. Для поэзии нужно все-таки некоторое уединение. Потом я занимался наукой, социологией и стихами почти что не интересовался. Когда в науке разочаровался, начал больше читать, писать, лет с двадцати — серьезно.
— А в семье у тебя кто-нибудь писал стихи?
— У меня абсолютно интеллигентская семья. Из всех моих бабушек и дедушек только одна без кандидатской степени. Такая петербургская техническая и гуманитарная интеллигенция. Отец биолог, а мама историк. Мама вроде даже что-то писала в юности, но я никогда этого не читал. Бабушка была преподавателем латыни.
«Поэтическое древнее политического»
— Маяковский и компания в своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» призывали сбросить с корабля современности Пушкина, Достоевского и Толстого. А кого, на твой взгляд, нужно сейчас cбросить?
— Этот отбор происходит внутри тебя, а не в манифесте. Когда я в манифесте пишу: «Сбросить Пушкина с корабля современности» — это значит, я от Пушкина очень зависим, потому что, когда я говорю «неПушкин» — это тоже Пушкин. Тот же Маяковский для меня как раз пример рабства поэзии перед политикой. У него есть замечательная запись в дневнике, когда он отмечает свой день рождения, уже в конце жизни: «Никто не пришел». На самом деле было много людей, но не пришел никто из политиков. Для Маяковского это было «никто». Он и застрелился потом, потому что оказался не нужен Революции, которой свою жизнь и отдал. В поэзии очень четко видно, что любые отрицания не работают. Если я говорю: «Я тебя не люблю», значит, я от тебя зависим до сих пор. Также, если я говорю: «Я не люблю Путина», значит, я от Путина зависим, а в этом нет свободы.
— А как же фраза Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт»?
— На мой взгляд, поэзия выше политики. Это политика должна с поэзией заигрывать, а не наоборот, потому что политика разъединяет, а поэзия объединяет. Поэзия принципиально должна быть для всех и каждого, а политика всегда для части общества. Если я, например, либерал или патриот, кто угодно, то я всегда ориентируюсь на эту часть. В поэзии я не имею права ориентироваться только на либералов или патриотов. Ну, скажем, я не имею права не ориентироваться на русских чиновников. Я о них не очень высокого мнения в целом, но поэзия должна быть и для них тоже, и для милиционеров, и для всех остальных. Поэтическое сильнее и древнее политического, потому что исследует вечные вопросы. Дерево — вечное, и потому оно существеннее, чем Путин, и поэт занимается больше деревом, чем Путиным.
— Тогда, как ты, верующий человек, относишься к влиянию церкви на культурную жизнь в России?
— У меня сложные отношения с современной православной церковью. Мне все ближе становится старообрядчество. По крайней мере, единоверие, потому что я очень не люблю государство. Для меня любое сращение с государством — это смерть. В 1990-е и начале 2000-х такого сращения церкви с государством не было, а то, что происходит сейчас, очень печально. Любые стихи, написанные изнутри церкви, стихами, на мой взгляд, сложно назвать. Когда условно: Бог, Богородица, Иоанн Креститель — это такое очень духовное что-то, но со стихами ничего близкого не имеет. Мне ближе поэт-священник Сергей Круглов из Минусинска, потому что он отстаивает более светскую позицию. Ну и, конечно, я против любого влияния церкви на культуру. Христианство — антипатриотичная вещь, и сращение церкви с патриотизмом — тоже абсолютно не христианская штука. А про «оскорбления чувства верующих» — это полнейший бред, потому что юридически чувства верующих оскорбить нельзя.
— Вот и некоторых рэперов обвиняют в «оскорблении чувств». Вообще, сейчас какой-то пик популярности рэпа. Это тоже такая форма поэзии?
— Я слушал немножко, тот же батл Оксюморона с Гнойным. В этом очень много показушности, стеба, с поэзией не имеющего, мне кажется, связи. Бывают талантливые штуки, но опять же я не стал бы называть это поэзией. Да, это хорошая форма развлечения, такое шоу. Поэзия — это не шоу. У Оксюморона ничего нового я не вижу, а у Гнойного тем более.
— А рок-поэзия?
— Раньше мне рок нравился, но когда сейчас смотришь тексты даже БГ, понимаешь, что это не поэзия, потому что они не существуют отдельно от песни. А поэзия — это то, что существует отдельно от песни, от исполнения. Солист группы «Сплин» Васильев говорил, что песня — это «грязный жанр», а поэзия «чистый жанр». Так вот в чистом жанре ни рэп, ни рок не существуют. Это все равно остается грязным одновременно с исполнением, с гитаркой. То же самое, кстати, с бардами. Барды хороши, но это не поэзия: ни Высоцкий, ни Окуджава, ни Галич. Поэзия должна существовать сама по себе, и она должна сама по себе быть создана.
— С недавних пор ты стал профессионально заниматься психологической консультацией. Как это случилось?
— Заниматься поэзией ради заработка не стоит никогда. Я искал сферу около-интеллигентскую, но не научную, и вот нашел психотерапию для себя. Мне в этом смысле очень повезло, и я очень рад этому. Человек приходит к тебе со своей проблемой, и ты решаешь ее здесь и сейчас. Такой серьезный вызов для человека и его философии. Это способствует осознанности, которая помогает творчеству.