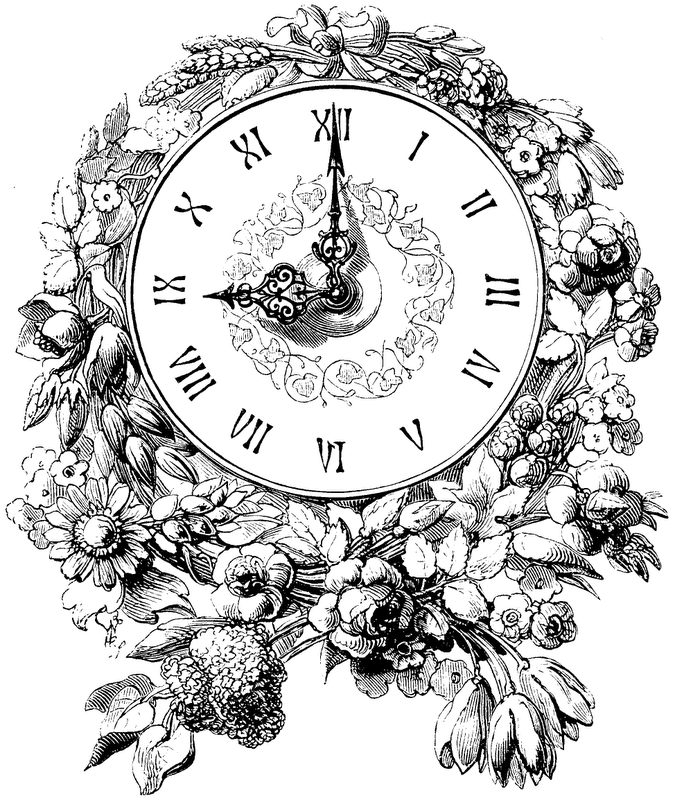Минуло два года с тех пор, как ушел из жизни Ильи Сергеевич Глазунов — большой художник и друг нашей редакции. Но его дело живет благодаря сыну Ивану Глазунову — живописцу, реставратору, педагогу, а теперь и ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Сегодня Ивану Ильичу исполняется 50 лет. Накануне торжества мы встретились в академии и поговорили о его вотчине, об искусстве обучения искусству, о чуде Русского Севера и, конечно же, о семье.
— В одном из интервью вы сказали, что потенциал закладывается в детстве. Вам был дан большой потенциал, ведь вы росли в великой семье. Было ли у вас желание пойти иным путем — может, мечтали стать космонавтом?
— В раннем детстве я хотел стать пожарным. Рядом с ГИТИСом есть знаменитая пожарная часть, где я с замиранием сердца наблюдал учения. И родителей долго пугал, что хочу быть пожарным. Илья Сергеевич не всегда понимал стремление ребенка к чему-то такому романтичному и полувоенному. А потом меня отвели в художественную школу. Сначала я учился в обычной школе, потом в Московской средней художественной школе — знаменитой МЦХШ, куда принимали одаренных детей из разных городов. Какой тут уже выбор? Надо было работать. Каждый день делать около 40 набросков. И я все время наблюдал жизнь мастерской в Калашном переулке. Я рано оказался вовлечен в этот процесс: помогал натягивать холсты, что-то клеить, а потом стал уже и красками работать.
— У Ильи Сергеевича с утра до вечера были гости — от звезд и дипломатов до бедных монахов. Какая встреча в детстве запомнилась вам больше всего и, возможно, изменила вас?
— Людей действительно было много. На меня часто обижались за то, что я пристально смотрел при встрече, думали: какой наглый. Даже моя жена до сих пор вспоминает мой взгляд при нашей первой встрече. А я просто всегда старался «просканировать» человека. На меня, наверное, больше всего повлияли студенты Ильи Сергеевича из Суриковского института, где у него была «Мастерская портрета», куда и я потом поступил. Вечером все они были у нас. Сидели в библиотеке, читали книги, которые тогда были не в ходу, например Бердяева, много курили. А у меня было почетное послушание носить им кофе, чай и сосиски из Дома журналистов и из «Праги», куда я бегал с кастрюлей. Некоторые из более молодого поколения тех студентов сейчас работают в академии. Это были люди с горящими глазами, те, кто поступил вопреки «позвоночникам», которых брали «по звонку». Они были больны искусством. Некоторые пытались подражать отцу, что меня смешило: у кого-то вдруг появлялись похожие интонации в голосе. Они были им очень увлечены. Он умел заразить своей идеей и энергией. Он тратился душой. Я тоже считаю, надо траться душой, иначе ты не художник. Приходило и много известных людей, ходили к нам и священники — в советское время гости как с другой планеты. Приходил епископ Иннокентий, внук святого Иннокентия Аляскинского. Этот старец однажды принес переписанный от руки на бумажку текст «Отче наш», чтобы дети учили. Она долго у меня хранилась. Хотя у нас дома какой-то особой религиозности не было, за исключением собрания икон и посещения службы на Пасху.
— Страсть к коллекционированию у вас от отца. Где сейчас его знаменитая коллекция икон? Продолжаете ее пополнять?
— В те времена это было даже не собирательство, а спасение. Все это буквально валялось под ногами, можно было отъехать от Москвы на 200 километров в заколоченный храм, который вот-вот взорвут или снесут, и что-то успеть вынести, чтобы потом сохранить. Часто деревенские просто дарили что-то в музей, чтобы оно не пропало. Или можно было что-то выпросить, купить. У Ильи Сергеевича была своя идея. Это была семейная страсть даже не к коллекционированию, а к окружению себя вещами из своего мира, созданию своей художественной среды и к спасению России — ни больше, ни меньше. Когда я уже был в зрелом возрасте, мы с отцом рано утром на метро ездили в Измайловский парк, разыскивали там интересное. Он часто приезжал в Петербург и мог за день объехать все антикварные лавки. Кстати, все книги в библиотеку академии он выискивал в Петербурге и привозил на себе. Сейчас многое осталось в семейной коллекции, но большая часть передана в Галерею Глазунова на Волхонке, где он завещал выставить эту коллекцию, как и свои картины.
«Чудо, которое может повлиять на душу»
— А какой была ваша первая коллекционерская удача?
— Для меня все началось с реставрации. Помню маму, склонившуюся над темной доской. Как вдруг из этой черноты открывается глаз, голубой фон, золотой нимб… Это чудо. Помню, что тогда у меня родилось неосознанное влечение собирать старинные вещи, чтобы потом жить с ними в своей комнате, в мастерской. Мне хотелось окружить себя тем, что я люблю. А любил я приблизительно то же, что Илья Сергеевич — иконы, русский костюм, старинные северные вещи. Впервые я поехал на Север в 1991 году — в Костромскую и Вологодскую области. Эта поездка была в коллекционерском плане неудачной. Посмотрели огромное количество брошенных домов, деревень, пообщались с людьми. И я понял, что коллекционерство здесь не главное, но что мне открывается целый мир, дотоле неведомый, который предстал мне в русской глубинке на Русском Севере. Воспоминания какой-нибудь бабушки, ее рассказы об окопах и лесоповале во время войны, о потере мужа и сыновей на фронте, мне дали намного больше, чем первые попытки что-то собрать. Я заболел этими поездками. Потом, когда мы стали каждое лето ездить, это общение с людьми стало для меня еще больше значить. Но все равно жажда что-то привезти не оставляла, и было много хорошего привезено: несколько икон, костюмов. Главное, чем увенчались мои поездки, — перевозка деревянной церкви Георгия Победоносца XVII века в Коломенское. Хотелось спасти такой забытый и брошенный памятник архитектуры. И сейчас он стоит в ландшафте музея, не без усилий меня и моей жены Юлии, чему мы очень счастливы.
— С Севера вы привозите исторические костюмы. Расскажите о самом любимом.
— Коллекция все еще пополняется. У меня мама занималась костюмом, отвечала за эту часть в театральных постановках. Я хорошо помню воздействие на меня ветхой и безумно красивой одежды, в которой уже никто не ходит. У меня есть костюмы, привезенные с Севера, которые доставались буквально из сундуков. Какие-то были куплены в Англии — очевидно, оставшиеся от русских эмигрантов. Например, у меня есть тверской кокошник, который принадлежал леди Диане Купер. Она была артисткой немого кино в Англии, женой посла Британии во Франции. Есть найденные на Севере вещи. Помню, сидишь в избе, за окном белая ночь, а бабушка рассказывает, что у нее осталось от матери, зовет в амбар, берет огромный ключ. Достает ветхий чемодан, вываливает тряпки, которые все уже мыши съели. И вдруг среди этой ветоши лежит вышитая золотом шапочка, которую мыши не тронули, поскольку там металлическая нить. Такое воспоминание важнее самой вещи, ведь присутствуешь при исходе северной культуры. Приобщаешься к ней, хочешь сохранить.
«Нельзя быть художником по наущению, этим надо жить»
— У вас четверо детей. Они пошли по вашим стопам?
— Старшая, Ольга, учится в академии, рисует. Но у нее, наверное, выбора не было. Хотя на самом деле нельзя быть художником по наущению, надо этим жить. Любому ребенку нравится рисовать, а лет в 12 уже становится видно, кто с этим будет жить профессионально, а кто забудет, как детское увлечение. И если ты не хочешь, то тебя никто не заставит сидеть и рисовать. А вот если ты приходишь домой с урока рисования и снова рисуешь, значит, будешь художником. Если же этого не происходит и ребенок зевает и пытается чем-то другим себя развлечь, то заставлять бесполезно. Вторая дочь, Глафира, учится на актерском в театральном институте имени Щукина. Для нее весь интерес — театр. Сейчас она на четвертом курсе, все они уже задумываются серьезно, что будет с ними дальше. Младшие дети — дочь Марфа и сын Федор — еще учатся в школе. Они пока определяются, чем хотят заниматься, я их не заставляю, пусть сами выбирают путь.
— У вас дом наполнен историческими предметами. Каково современному человеку жить в обстановке старины?
— Мне нравится так жить, поскольку все вещи посылают импульсы, это связь с историей.
— А когда вы оказываетесь в современном пространстве, минималистическом, чувствуете себя некомфортно?
— Мне нужна хотя бы одна зацепка со стариной. Я бывал в таких домах, где полный минимализм, но присутствие одного произведения искусства высокого класса держит на себе все. Помню, я купил в Петербурге один сундучок XVII века с русской росписью. Принес в гостиницу, а номер там было в стиле советского хай-тека: белые стены, черная мебель. Поставил его туда, и он там как будто зацвел, словно я добавил в интерьер вазу с цветами. Это тоже неплохое сочетание.
«За академию надо бороться»
— Академия тоже для вас дом, семейное дело, на которое ваш отец положил много сил. Что сейчас с ней происходит?
— Отец ушел внезапно, хотя болел в последние годы и не так часто здесь появлялся. Можно было предвидеть его уход, но невозможно быть к этому готовым, это тяжело принять. Перед смертью он мне сказал, что за академию надо бороться, что он на меня надеется и что я это дело должен продолжить. Но я здесь уже почти 30 лет работаю, для меня это не внезапная история.
— Есть в этом, кажется, некий монархизм: как будущих царей с детства учили управлять, так и он вас внедрил в академию.
— Если ты художник и сын известного художника, то тебя неизбежно сравнивают с отцом. И поговорку о том, что «природа на детях отдыхает», я слышал много раз, как слышал и обратное. Надо трезво оценивать свои силы, понимать, что на тебя свалилось, уметь с этим справиться. Думаю, что я к этому все-таки готовился: не то чтобы взять управление в свои руки, но я понимаю, что такое академия и какие ее основные задачи. Несмотря на сложное время, наша идея принимать на обучение талантливых людей остается. У нас никогда не было людей «по звонку». При поступлении оцениваются работы. Им присваивается номер, так что мы не смотрим на фамилии, личные дела, фотографии и прочее.
— Сколько сейчас студентов в академии?
— Около 400. Но у нас еще есть филиал в Перми. Сейчас идет активная выставочная программа, которой раньше не было в академии. У нас была выставка в Риме — практически на Капитолийском холме, в зале Витториано, где выставиться не так просто. Это мемориальный комплекс с вечным огнем. Удивительно, что нам дали бесплатный зал. Директор музея увидела произведения наших студентов и пришла в восторг от того, что современные мальчики и девочки так пишут. Это достижение нашей школы. Итальянцы и европейцы вообще соскучились по такой школе, и они ее очень хорошо принимают.
— То есть в Италии сейчас есть запрос на мастеров, хорошо владеющих техникой, потому что там в художественных вузах уже не делают на этом упор?
— У них поколение, умевшее писать, уже ушло. Там были хорошие живописцы. Но потом на людей повлияла декларация о правах человека, сексуальная революция. Сегодня студента не имеют права напрягать, ставить отметки — ему надо дать самовыразиться. А у нас же сохранилась школа императорской России — в хорошем смысле слова муштра, ведь, чтобы самовыразиться, нужна школа.
— А остается ли у студентов время на самовыражение?
— Была смешная поговорка, что студент должен страдать. Но на самом деле студент действительно должен помучиться, чтобы достичь профессионального результата. Если тебе есть что сказать, ты все равно это скажешь, и никакой преподаватель, никакой твердый камень науки, который надо грызть, не сможет в тебе заглушить творческое.
— Как много выпускников академии работает по профессии?
— Наши выпускники очень востребованы. Думаю, примерно половина выпускников работает по профессии. Многие уходят в сферу дизайна. Некоторые работают над росписью храмов. У нас нет факультета реставрации церквей, но есть специальный курс. Очень популярный. Это счастливая возможность на благородном деле зарабатывать своей профессией — это очень важно для молодого художника. А есть и те, кто приносит приглашения на свои выставки, таких людей тоже много. Когда меня приглашают на такие открытия, я радуюсь, потому что вижу, что у студента есть круг поклонников, человек занял свою нишу в художественной жизни.
— Сейчас идет ремонт академии. Что делается?
— Будем скоро реставрировать фасадную часть. А внутри мне хотелось чуть-чуть поменять цветовую гамму, обновить. У нас проходят выставки к разным юбилейным датам, связанным с Ильей Сергеевичем, — живопись, архив, фотографии. Показываю студентам, чтобы они помнили, кто основал академию, чтобы его имя не просто было на вывеске. Также у нас теперь проходят внутренние выставки с летних практик. Для этого надо поддерживать красоту интерьера. Чтобы он существовал не сам по себе, а чтобы студент понимал, что находится в волшебном дворце, храме, которому надо соответствовать. Как говорят в Петербурге, в академии стены учат.
«Чувствую себя на 30»
— Как собираетесь отметить круглую дату?
— Вспоминаю, как один деятель прислал открытку: «Приглашаю на торжество по поводу моего юбилея». Никакого торжества, конечно, не будет. Будут встречи с друзьями, со всеми, кто мне близок, дорог, с сотрудниками и с коллегами. Сначала мы хотели уехать. Но не получается, буду здесь. Такая дата, неожиданно до меня докатившаяся, я не соответствую ей, мне кажется. И пока не могу в нее поверить.
— А вы на сколько себя чувствуете?
— На 30 с чем-то. Я еще бегаю по строительным лесам. Мы не только реставрируем, но и заново пишем стены храмов. Я стою за мольбертом. Не хочется быть привязанным к начальственному креслу. Надо все умело совмещать.
— У вас тут есть уголок с мольбертом?
— Здесь, к сожалению, нет. Любой человек на руководящей должности находится на растерзании. Такой уголок тут невозможно организовать, к тебе и туда придут. Здесь надо жить жизнью студентов и накопившихся дел, а потом уже где-то уединяться, получать вдохновение и впечатления. И все это разные места.
— Вы как художник идете за отцом, но вы же другой художник. Есть какие-то принципиальные отличия в вашем творчестве?
— У меня была дилемма: быть ли вторым Ильей Глазуновым? Но кому это надо? Мне многие говорили: надо продолжать дело отца. А что это значит? У нас же не фабрика по производству валенок. Продолжать — значит самореализовываться. Я никогда не стремился подражать, понимал, что это бессмысленно, а потом, на некоторые вещи я по-другому смотрю. У меня перевес в сторону формы. Мне кажется, что высоко, искусно сделанная форма уже рождает идею. Он, конечно, на меня повлиял, как иначе. Кстати, сейчас мы готовим большую выставку Ильи Сергеевича, она пройдет в Манеже в июле. Это будет выставка не только картин отца, она будет о времени — хроники, фильмы, его друзья на портретах и фотографиях — его мир.
Читайте также: Иван Глазунов — об отце: «Он не был сусальным человеком»
Минуло два года с тех пор, как ушел из жизни Ильи Сергеевич Глазунов — большой художник и друг нашей редакции. Но его дело живет благодаря сыну Ивану Глазунову — живописцу, реставратору, педагогу, а теперь и ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Сегодня Ивану Ильичу исполняется 50 лет. Накануне торжества мы встретились в академии и поговорили о его вотчине, об искусстве обучения искусству, о чуде Русского Севера и, конечно же, о семье. — В одном из интервью вы сказали, что потенциал закладывается в детстве. Вам был дан большой потенциал, ведь вы росли в великой семье. Было ли у вас желание пойти иным путем — может, мечтали стать космонавтом? — В раннем детстве я хотел стать пожарным. Рядом с ГИТИСом есть знаменитая пожарная часть, где я с замиранием сердца наблюдал учения. И родителей долго пугал, что хочу быть пожарным. Илья Сергеевич не всегда понимал стремление ребенка к чему-то такому романтичному и полувоенному. А потом меня отвели в художественную школу. Сначала я учился в обычной школе, потом в Московской средней художественной школе — знаменитой МЦХШ, куда принимали одаренных детей из разных городов. Какой тут уже выбор? Надо было работать. Каждый день делать около 40 набросков. И я все время наблюдал жизнь мастерской в Калашном переулке. Я рано оказался вовлечен в этот процесс: помогал натягивать холсты, что-то клеить, а потом стал уже и красками работать. — У Ильи Сергеевича с утра до вечера были гости — от звезд и дипломатов до бедных монахов. Какая встреча в детстве запомнилась вам больше всего и, возможно, изменила вас? — Людей действительно было много. На меня часто обижались за то, что я пристально смотрел при встрече, думали: какой наглый. Даже моя жена до сих пор вспоминает мой взгляд при нашей первой встрече. А я просто всегда старался «просканировать» человека. На меня, наверное, больше всего повлияли студенты Ильи Сергеевича из Суриковского института, где у него была «Мастерская портрета», куда и я потом поступил. Вечером все они были у нас. Сидели в библиотеке, читали книги, которые тогда были не в ходу, например Бердяева, много курили. А у меня было почетное послушание носить им кофе, чай и сосиски из Дома журналистов и из «Праги», куда я бегал с кастрюлей. Некоторые из более молодого поколения тех студентов сейчас работают в академии. Это были люди с горящими глазами, те, кто поступил вопреки «позвоночникам», которых брали «по звонку». Они были больны искусством. Некоторые пытались подражать отцу, что меня смешило: у кого-то вдруг появлялись похожие интонации в голосе. Они были им очень увлечены. Он умел заразить своей идеей и энергией. Он тратился душой. Я тоже считаю, надо траться душой, иначе ты не художник. Приходило и много известных людей, ходили к нам и священники — в советское время гости как с другой планеты. Приходил епископ Иннокентий, внук святого Иннокентия Аляскинского. Этот старец однажды принес переписанный от руки на бумажку текст «Отче наш», чтобы дети учили. Она долго у меня хранилась. Хотя у нас дома какой-то особой религиозности не было, за исключением собрания икон и посещения службы на Пасху. — Страсть к коллекционированию у вас от отца. Где сейчас его знаменитая коллекция икон? Продолжаете ее пополнять? — В те времена это было даже не собирательство, а спасение. Все это буквально валялось под ногами, можно было отъехать от Москвы на 200 километров в заколоченный храм, который вот-вот взорвут или снесут, и что-то успеть вынести, чтобы потом сохранить. Часто деревенские просто дарили что-то в музей, чтобы оно не пропало. Или можно было что-то выпросить, купить. У Ильи Сергеевича была своя идея. Это была семейная страсть даже не к коллекционированию, а к окружению себя вещами из своего мира, созданию своей художественной среды и к спасению России — ни больше, ни меньше. Когда я уже был в зрелом возрасте, мы с отцом рано утром на метро ездили в Измайловский парк, разыскивали там интересное. Он часто приезжал в Петербург и мог за день объехать все антикварные лавки. Кстати, все книги в библиотеку академии он выискивал в Петербурге и привозил на себе. Сейчас многое осталось в семейной коллекции, но большая часть передана в Галерею Глазунова на Волхонке, где он завещал выставить эту коллекцию, как и свои картины. «Чудо, которое может повлиять на душу» — А какой была ваша первая коллекционерская удача? — Для меня все началось с реставрации. Помню маму, склонившуюся над темной доской. Как вдруг из этой черноты открывается глаз, голубой фон, золотой нимб… Это чудо. Помню, что тогда у меня родилось неосознанное влечение собирать старинные вещи, чтобы потом жить с ними в своей комнате, в мастерской. Мне хотелось окружить себя тем, что я люблю. А любил я приблизительно то же, что Илья Сергеевич — иконы, русский костюм, старинные северные вещи. Впервые я поехал на Север в 1991 году — в Костромскую и Вологодскую области. Эта поездка была в коллекционерском плане неудачной. Посмотрели огромное количество брошенных домов, деревень, пообщались с людьми. И я понял, что коллекционерство здесь не главное, но что мне открывается целый мир, дотоле неведомый, который предстал мне в русской глубинке на Русском Севере. Воспоминания какой-нибудь бабушки, ее рассказы об окопах и лесоповале во время войны, о потере мужа и сыновей на фронте, мне дали намного больше, чем первые попытки что-то собрать. Я заболел этими поездками. Потом, когда мы стали каждое лето ездить, это общение с людьми стало для меня еще больше значить. Но все равно жажда что-то привезти не оставляла, и было много хорошего привезено: несколько икон, костюмов. Главное, чем увенчались мои поездки, — перевозка деревянной церкви Георгия Победоносца XVII века в Коломенское. Хотелось спасти такой забытый и брошенный памятник архитектуры. И сейчас он стоит в ландшафте музея, не без усилий меня и моей жены Юлии, чему мы очень счастливы. Фото: пресс-службa РАЖВиЗ. — С Севера вы привозите исторические костюмы. Расскажите о самом любимом. — Коллекция все еще пополняется. У меня мама занималась костюмом, отвечала за эту часть в театральных постановках. Я хорошо помню воздействие на меня ветхой и безумно красивой одежды, в которой уже никто не ходит. У меня есть костюмы, привезенные с Севера, которые доставались буквально из сундуков. Какие-то были куплены в Англии — очевидно, оставшиеся от русских эмигрантов. Например, у меня есть тверской кокошник, который принадлежал леди Диане Купер. Она была артисткой немого кино в Англии, женой посла Британии во Франции. Есть найденные на Севере вещи. Помню, сидишь в избе, за окном белая ночь, а бабушка рассказывает, что у нее осталось от матери, зовет в амбар, берет огромный ключ. Достает ветхий чемодан, вываливает тряпки, которые все уже мыши съели. И вдруг среди этой ветоши лежит вышитая золотом шапочка, которую мыши не тронули, поскольку там металлическая нить. Такое воспоминание важнее самой вещи, ведь присутствуешь при исходе северной культуры. Приобщаешься к ней, хочешь сохранить. «Нельзя быть художником по наущению, этим надо жить» — У вас четверо детей. Они пошли по вашим стопам? — Старшая, Ольга, учится в академии, рисует. Но у нее, наверное, выбора не было. Хотя на самом деле нельзя быть художником по наущению, надо этим жить. Любому ребенку нравится рисовать, а лет в 12 уже становится видно, кто с этим будет жить профессионально, а кто забудет, как детское увлечение. И если ты не хочешь, то тебя никто не заставит сидеть и рисовать. А вот если ты приходишь домой с урока рисования и снова рисуешь, значит, будешь художником. Если же этого не происходит и ребенок зевает и пытается чем-то другим себя развлечь, то заставлять бесполезно. Вторая дочь, Глафира, учится на актерском в театральном институте имени Щукина. Для нее весь интерес — театр. Сейчас она на четвертом курсе, все они уже задумываются серьезно, что будет с ними дальше. Младшие дети — дочь Марфа и сын Федор — еще учатся в школе. Они пока определяются, чем хотят заниматься, я их не заставляю, пусть сами выбирают путь. — У вас дом наполнен историческими предметами. Каково современному человеку жить в обстановке старины? — Мне нравится так жить, поскольку все вещи посылают импульсы, это связь с историей. — А когда вы оказываетесь в современном пространстве, минималистическом, чувствуете себя некомфортно? — Мне нужна хотя бы одна зацепка со стариной. Я бывал в таких домах, где полный минимализм, но присутствие одного произведения искусства высокого класса держит на себе все. Помню, я купил в Петербурге один сундучок XVII века с русской росписью. Принес в гостиницу, а номер там было в стиле советского хай-тека: белые стены, черная мебель. Поставил его туда, и он там как будто зацвел, словно я добавил в интерьер вазу с цветами. Это тоже неплохое сочетание. «За академию надо бороться» — Академия тоже для вас дом, семейное дело, на которое ваш отец положил много сил. Что сейчас с ней происходит? — Отец ушел внезапно, хотя болел в последние годы и не так часто здесь появлялся. Можно было предвидеть его уход, но невозможно быть к этому готовым, это тяжело принять. Перед смертью он мне сказал, что за академию надо бороться, что он на меня надеется и что я это дело должен продолжить. Но я здесь уже почти 30 лет работаю, для меня это не внезапная история. — Есть в этом, кажется, некий монархизм: как будущих царей с детства учили управлять, так и он вас внедрил в академию. — Если ты художник и сын известного художника, то тебя неизбежно сравнивают с отцом. И поговорку о том, что «природа на детях отдыхает», я слышал много раз, как слышал и обратное. Надо трезво оценивать свои силы, понимать, что на тебя свалилось, уметь с этим справиться. Думаю, что я к этому все-таки готовился: не то чтобы взять управление в свои руки, но я понимаю, что такое академия и какие ее основные задачи. Несмотря на сложное время, наша идея принимать на обучение талантливых людей остается. У нас никогда не было людей «по звонку». При поступлении оцениваются работы. Им присваивается номер, так что мы не смотрим на фамилии, личные