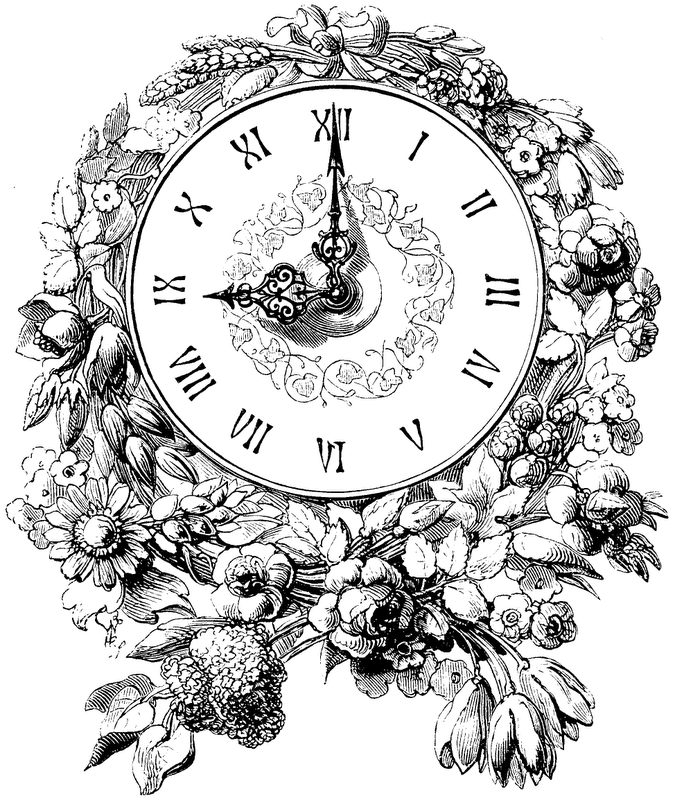Дело происходит в девичьем общежитии и занимает примерно два с половиной часа. Темп стремительный, личики очаровательные, ахнуть не успеете, а уже конец. Для тех, кто не понял, на стене экран, и на нём появляется яркая надпись «КОНЕЦ». А уходить не хочется, расставаться с этими девочками не хочется. Думаешь: «Надо обязательно о них написать! Надо, чтобы все о них узнали!» И тут оказывается, что это невозможно.
Владимир Панков в своём театре на Соколе поставил «Фабричную девчонку». Премьеру сыграли в пятницу, 15 ноября. Вот и вся информация. После этого сообщения надо было бы написать: «Панков — гений! Независимо от того, что он ещё сделает».
Но ведь так нельзя, глупость какая-то, восторженное восклицание. Вдобавок нет надёжнее способа вызвать у профессионалов досаду и ярость, чем назвать человека гением. Ладно бы мёртвого — ещё туда-сюда, но живого…
Надо доказывать, описывать, но сразу натыкаешься на вечную проблему. Она называется «неописуемо».
Человеку, который смотрит «Фабричную девчонку», нужны восемь глаз (как пауку), ибо смотреть стоит сразу во все стороны и ещё вверх. Но даже будь у вас сто глаз — это не поможет, ибо, победив пространство, время вам победить не удастся.
Сорок артистов работают одновременно. Одна говорит, другая перебивает, третья идёт, вихляя бёдрами, мужик жуёт колбасу, барышня лабает на саксе, над сценой ударник вытворяет чудеса, с балкона вразвалочку спускаются братцы-матросики — тельняшки, брюки-клёш, комсомольский секретарь уламывает активистку, входит иностранная делегация… — ясно?
Вы только что прочли это последовательно , а в спектакле это всё одновременно. И нет хаоса. Как нет хаоса, когда играет большой симфонический оркестр — 120 инструментов.
Оркестру проще. Перед ним стоит дирижёр, и все 120 музыкантов видят его — видят руки и палочку, которые задают темп, громкость, показывают, когда вступить трубе, когда грохнуть тарелкам, а музыканты не бегают по сцене…
В спектакле нет дирижёра, есть множество голосов, много музыки, песен, а по сцене носятся не только артисты, но и музыканты с гитарами, саксофоном, даже с контрабасом (не переставая играть!).
Малоопытный зритель не увидит и половины. Просто не успеет, да и трудно сообразить, куда смотреть: на того, кто говорит? на того, кто переживает драму? на того, кто сопереживает? на экран (а киноэкран постоянно что-то показывает)? на горящие глаза беспутной девчонки?
В обычных «крепких» драмтеатрах действие развивается строго по правилам I тысячелетия до нашей эры: один говорит, остальные ждут своей очереди. А тут… Для наглядности представьте, что вы всю жизнь ездили в «Запорожце», а потом вдруг оказались в кабине Ту-160 (стратегический бомбардировщик «Белый лебедь») — вы с ума сойдёте, не зная, на какой прибор смотреть.
…Споём? Вы вряд ли представляете, какое счастье слышать живьём девчачий хор середины ХХ века, видеть лица, сияющие верой и надеждой.
В буднях великих строек,
Еле успевает мелькнуть мысль: «Каких мечтателей? О чём мечтателей?» И ещё одна: «Здравствуй, страна учёных, или прощай?»
Чего только нет в этом спектакле! Но всё же надо сказать, чего там нет. Ни голой попки, ни голых грудок — а так просто их показать в девчачьем общежитии. И публике это обязательно понравится, и, вероятно, даже юным артисткам, им же 19 лет.
Ни мата, ни геев, ни лесбиянок, ни имитации половых актов — ничего из этой дешёвой мерзости, которую веками бездарные, наглые негодяи продают легковерной публике под вывеской «Современное Искусство». И ведь покупают. И богомоловщина, и пуссятина, и всё, где без нужды снимают штаны и показывают голые зады (увы, не девичьи), — всегда в продаже. При всей, казалось бы, строгой цензуре, которая запрещает даже упоминать самоубийство: мол, это призыв.
Текст съехал в политику? Да, но ведь это газета. А на сцене политики нету. Никто не осуждает советскую власть и товарища Сталина. Хотя и могли бы; действие происходит осенью 1956-го — через полгода после разоблачения культа.
Двухъярусные панцирные койки, если их поставить на попа, сами образуют тюремный коридор, с обеих сторон загороженный металлической сеткой. Девчонки шмыгают и скачут по этим коридорам — весёлые, наивные; а ведь можно было им сказать, чтоб взяли руки за спину, и на сцене сразу возникли бы зэчки, советский ГУЛаг.
Тюремные коридоры и тема лагеря, если и возникает, то лишь в мозгу у того зрителя, который знает . Знает родную историю; и не только родную. Знает (или даже помнит), что это значит — собрания, где надо осудить того, кого велено осудить. За связь с иностранцем, за аморалку, пьянку, антисоветский анекдот, антиобщественное поведение…
А на сцене чудесные наивные девчонки орут во всю глотку:
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам ли стоять на месте?
Откуда ж им знать, что эти слова («Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства») были огромными буквами написаны не только на крышах городов, но и над воротами Колымских лагерей…
— Погодите! Если этого нет в спектакле, то зачем здесь об этом писать?
— Затем… Затем, что это газета. Затем, что сразу было сказано: спектакль описать невозможно (только всё испортишь). Но если невозможно описать спектакль, то мысли-то свои описать можно. Их, эти мысли, вызвал спектакль. И, кстати, они, эти мысли, приходят потом. Сами. А пока смотришь — испытываешь такой восторг, что печальным мыслям почти нету места. Они приходят потом, ночью. Восторг, если попадёте на спектакль, вам гарантирован. А ночные мысли у вас будут свои.
…Общежитие фабричных девчонок, одинаковые тёмно-серые халатики, белые косынки. В руках одинаковые красные книжки — вероятно, программа КПСС, где написано, что коммунизм будет построен к 1980-му. У девчонок он впереди, до него всего 25 лет. А у нас он позади на 40, так сложилось. Жаль.
К человеку приходят мысли. Иногда сразу две-три. Какую записать первой: яркую, или умную, или важную? Они — сразу . А пишешь — последовательно. Ещё досада: пока записываешь одну мысль, другая может улететь. «Вернись! Вернись!» — нет, обиделась и исчезла.
Это не о спектакле? Как сказать. С (казалось бы) хаотическими мыслями и ассоциациями люди сталкиваются постоянно. Вот классическая картина: князь Андрей натыкается на дуб, который совсем недавно стоял голый, мёртвый, а теперь — огромный шатёр темно-зелёных листьев.
«Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — все это вдруг вспомнилось ему».
Только подумайте: «все лучшие минуты жизни»! Аустерлиц — это же не слово, не город. Князь Андрей вспомнил «Битву трёх императоров» — великое сражение великой войны, колоссальной важности событие XIX века (которое потом заслонили ещё более важные, но наперёд этого ж никто не знал). Взволнованная девочка — это же Наташа Ростова, которая… с которой… Да если б кн. Андрей остановился под дубом и попытался записать все эти мысли, чувства, ассоциации, то там бы и помер от старости, не закончив эту работу.
Он увидел ствол, сучья, листья. А думает — о жизни, о душе.
* * *
В пьесе Володина с самого начала в спальне у девчонок-ткачих появляется кинооператор. Он снимает документальный фильм о передовых работницах-комсомолках. Он знает, как надо. Он гонит из кадра комсомольского вожака, гонит пожилую женщину (коменданта общежития) — в документальном фильме они не нужны. Оператор приказывает принести в спальню побольше книг, велит сесть за стол, читать, писать.
— Кому?
— Пиши родителям.
— Я детдомовская.
— Тогда подругам.
И юная ткачиха превращается в актрису. Она по приказу изображает кем-то выдуманное. Она становится актрисой документального кино. Вдумайтесь в безумие этого словосочетания: актриса документального кино.
Серые халатики, белые косынки — одинаковая одежда. Оператор командует: «Клипсы сними! Не улыбаться! В камеру никто не смотрит!»
Эта жуть никуда не делась. Она не покинула нас ни в 1956-м, ни в 1991-м. Только что десятки тысяч мальчиков и девочек изображали то «Наших», то «Идущих вместе». Эта молодёжь была как настоящая; к ним на Селигер приезжали настоящий президент, настоящий премьер. 60 тысяч настоящих Дедморозов шли по Ленинскому проспекту Москвы — шли ленинским путём. Они верили? Их организаторы и содержатели уж точно не верили ни в Бога, ни в чёрта.
Включите телевизор и вы немедленно увидите актёров документального кино. Они говорят то, что полагается по роли; говорят то, что им велено; то, что им кто-то написал. Они изображают любовь к народу с той же целью, что проститутки изображают любовь к клиенту — ради денег.
Как узнать, что это не человек, а актёр документального кино? Просто. Если он клянётся в патриотизме и проклинает Запад, а у самого виллы в Италии, в США и т.п. — значит, это актёр. Это народные артисты документального кино.
Честные, чудесные девчонки-ткачихи. Но — будь как все, делай что велят. Оператор командует: клипсы снять! не надо улыбок! Он снимает серьёзный документальный фильм. Легкомыслию нет места.
В пьесе Володина оператор появляется только в начале. В спектакле Панкова он на сцене всегда. Камера работает непрерывно. На двух экранах мы видим то, что видит камера, видим всякое . А потом в документальном фильме останется только то, что полагается. Не останется слёз, любовных признаний, обид. Начальник, который привёл в общежитие иностранную делегацию, командует переводчице: «Это не переводи!» — значит, кто-то из девочек сказал что-то лишнее. Начальник (в точности как оператор) знает, чего не должно быть. Он редактирует жизнь. Что поймут иностранцы за десять минут визита на передовую фабрику, в передовую бригаду, где все (все!) сидят и читают статью о хозрасчете. Какое документальное кино они потом покажут своему народу, своему Конгрессу?
А потом начальник ведёт иностранцев в цех, и девчонки мгновенно превращаются в ткацкие станки, работающие с бешеной скоростью — глаз не оторвать: такая красота! Шикарная пластическая сцена. В общем-то, они и есть станки, которым внушили, что надо любить свою работу — изматывающую, механическую. Но им 19 лет, они счастливы, они верят, они поют: Нам нет преград ни в море, ни на суше!
...В финале камера начинает снимать публику, мы вдруг видим на экране себя, и угрожающая команда «В камеру никто не смотрит!» начинает обретать какой-то не совсем киношный смысл.
Панков показал счастливых советских фабричных девчонок. Сделал счастливыми сегодняшних зрителей. Панков связал распавшуюся связь времён, победил время.
Возможно, он чем-то недоволен, видит недостатки (спектакль же только родился, только начал свою жизнь). Но ведь люди так устроены — они и Господом Богом постоянно недовольны: зачем наводнения? зачем землетрясения? зачем комары? Но ведь и Господь своим творением часто недоволен; Он тоже редактирует Свой документальный фильм; однажды даже всех утопил (почти всех).
Дело происходит в девичьем общежитии и занимает примерно два с половиной часа. Темп стремительный, личики очаровательные, ахнуть не успеете, а уже конец. Для тех, кто не понял, на стене экран, и на нём появляется яркая надпись «КОНЕЦ». А уходить не хочется, расставаться с этими девочками не хочется. Думаешь: «Надо обязательно о них написать! Надо, чтобы все о них узнали!» И тут оказывается, что это невозможно. Владимир Панков в своём театре на Соколе поставил «Фабричную девчонку». Премьеру сыграли в пятницу, 15 ноября. Вот и вся информация. После этого сообщения надо было бы написать: «Панков — гений! Независимо от того, что он ещё сделает». Но ведь так нельзя, глупость какая-то, восторженное восклицание. Вдобавок нет надёжнее способа вызвать у профессионалов досаду и ярость, чем назвать человека гением. Ладно бы мёртвого — ещё туда-сюда, но живого… Надо доказывать, описывать, но сразу натыкаешься на вечную проблему. Она называется «неописуемо». Человеку, который смотрит «Фабричную девчонку», нужны восемь глаз (как пауку), ибо смотреть стоит сразу во все стороны и ещё вверх. Но даже будь у вас сто глаз — это не поможет, ибо, победив пространство, время вам победить не удастся. Сорок артистов работают одновременно. Одна говорит, другая перебивает, третья идёт, вихляя бёдрами, мужик жуёт колбасу, барышня лабает на саксе, над сценой ударник вытворяет чудеса, с балкона вразвалочку спускаются братцы-матросики — тельняшки, брюки-клёш, комсомольский секретарь уламывает активистку, входит иностранная делегация… — ясно? Вы только что прочли это последовательно, а в спектакле это всё одновременно. И нет хаоса. Как нет хаоса, когда играет большой симфонический оркестр — 120 инструментов. Оркестру проще. Перед ним стоит дирижёр, и все 120 музыкантов видят его — видят руки и палочку, которые задают темп, громкость, показывают, когда вступить трубе, когда грохнуть тарелкам, а музыканты не бегают по сцене… В спектакле нет дирижёра, есть множество голосов, много музыки, песен, а по сцене носятся не только артисты, но и музыканты с гитарами, саксофоном, даже с контрабасом (не переставая играть!). Малоопытный зритель не увидит и половины. Просто не успеет, да и трудно сообразить, куда смотреть: на того, кто говорит? на того, кто переживает драму? на того, кто сопереживает? на экран (а киноэкран постоянно что-то показывает)? на горящие глаза беспутной девчонки? В обычных «крепких» драмтеатрах действие развивается строго по правилам I тысячелетия до нашей эры: один говорит, остальные ждут своей очереди. А тут… Для наглядности представьте, что вы всю жизнь ездили в «Запорожце», а потом вдруг оказались в кабине Ту-160 (стратегический бомбардировщик «Белый лебедь») — вы с ума сойдёте, не зная, на какой прибор смотреть. Фото: Олеся Хороших …Споём? Вы вряд ли представляете, какое счастье слышать живьём девчачий хор середины ХХ века, видеть лица, сияющие верой и надеждой. В буднях великих строек, В веселом грохоте, в огнях и звонах, Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, страна ученых! Еле успевает мелькнуть мысль: «Каких мечтателей? О чём мечтателей?» И ещё одна: «Здравствуй, страна учёных, или прощай?» Чего только нет в этом спектакле! Но всё же надо сказать, чего там нет. Ни голой попки, ни голых грудок — а так просто их показать в девчачьем общежитии. И публике это обязательно понравится, и, вероятно, даже юным артисткам, им же 19 лет. Ни мата, ни геев, ни лесбиянок, ни имитации половых актов — ничего из этой дешёвой мерзости, которую веками бездарные, наглые негодяи продают легковерной публике под вывеской «Современное Искусство». И ведь покупают. И богомоловщина, и пуссятина, и всё, где без нужды снимают штаны и показывают голые зады (увы, не девичьи), — всегда в продаже. При всей, казалось бы, строгой цензуре, которая запрещает даже упоминать самоубийство: мол, это призыв. Текст съехал в политику? Да, но ведь это газета. А на сцене политики нету. Никто не осуждает советскую власть и товарища Сталина. Хотя и могли бы; действие происходит осенью 1956-го — через полгода после разоблачения культа. Двухъярусные панцирные койки, если их поставить на попа, сами образуют тюремный коридор, с обеих сторон загороженный металлической сеткой. Девчонки шмыгают и скачут по этим коридорам — весёлые, наивные; а ведь можно было им сказать, чтоб взяли руки за спину, и на сцене сразу возникли бы зэчки, советский ГУЛаг. Фото: Олеся Хороших Тюремные коридоры и тема лагеря, если и возникает, то лишь в мозгу у того зрителя, который знает. Знает родную историю; и не только родную. Знает (или даже помнит), что это значит — собрания, где надо осудить того, кого велено осудить. За связь с иностранцем, за аморалку, пьянку, антисоветский анекдот, антиобщественное поведение… Фото: Олеся Хороших А на сцене чудесные наивные девчонки орут во всю глотку: Нам нет преград ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни льды, ни облака! Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века! Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы! Труд наш есть дело чести, Есть дело доблести и подвиг славы! Откуда ж им знать, что эти слова («Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства») были огромными буквами написаны не только на крышах городов, но и над воротами Колымских лагерей… — Погодите! Если этого нет в спектакле, то зачем здесь об этом писать? — Затем… Затем, что это газета. Затем, что сразу было сказано: спектакль описать невозможно (только всё испортишь). Но если невозможно описать спектакль, то мысли-то свои описать можно. Их, эти мысли, вызвал спектакль. И, кстати, они, эти мысли, приходят потом. Сами. А пока смотришь — испытываешь такой восторг, что печальным мыслям почти нету места. Они приходят потом, ночью. Восторг, если попадёте на спектакль, вам гарантирован. А ночные мысли у вас будут свои. …Общежитие фабричных девчонок, одинаковые тёмно-серые халатики, белые косынки. В руках одинаковые красные книжки — вероятно, программа КПСС, где написано, что коммунизм будет построен к 1980-му. У девчонок он впереди, до него всего 25 лет. А у нас он позади на 40, так сложилось. Жаль. Фото: Олеся Хороших К человеку приходят мысли. Иногда сразу две-три. Какую записать первой: яркую, или умную, или важную? Они — сразу. А пишешь — последовательно. Ещё досада: пока записываешь одну мысль, другая может улететь. «Вернись! Вернись!» — нет, обиделась и исчезла. Это не о спектакле? Как сказать. С (казалось бы) хаотическими мыслями и ассоциациями люди сталкиваются постоянно. Вот классическая картина: князь Андрей натыкается на дуб, который совсем недавно стоял голый, мёртвый, а теперь — огромный шатёр темно-зелёных листьев. «Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — все это вдруг вспомнилось ему». Только подумайте: «все лучшие минуты жизни»! Аустерлиц — это же не слово, не город. Князь Андрей вспомнил «Битву трёх императоров» — великое сражение великой войны, колоссальной важности событие XIX века (которое потом заслонили ещё более важные, но наперёд этого ж никто не знал). Взволнованная девочка — это же Наташа Ростова, которая… с которой… Да если б кн. Андрей остановился под дубом и попытался записать все эти мысли, чувства, ассоциации, то там бы и помер от старости, не закончив эту работу. Он увидел ствол, сучья, листья. А думает — о жизни, о душе. * * * Комендант общежития — Анна Гуляренко. Фото: Олеся Хороших В пьесе Володина с самого начала в спальне у девчонок-ткачих появляется кинооператор. Он снимает документальный фильм о передовых работницах-комсомолках. Он знает, как надо. Он гонит из кадра комсомольского вожака, гонит пожилую женщину (коменданта общежития) — в документальном фильме они не нужны. Оператор приказывает принести в спальню побольше книг, велит сесть за стол, читать, писать. — Кому? — Пиши родителям. — Я детдомовская. — Тогда подругам. И юная ткачиха превращается в актрису. Она по приказу изображает кем-то выдуманное. Она становится актрисой документального кино. Вдумайтесь в безумие этого словосочетания: актриса документального кино. Серые халатики, белые косынки — одинаковая одежда. Оператор командует: «Клипсы сними! Не улыбаться! В камеру никто не смотрит!» Эта жуть никуда не делась. Она не покинула нас ни в 1956-м, ни в 1991-м. Только что десятки тысяч мальчиков и девочек изображали то «Наших», то «Идущих вместе». Эта молодёжь была как настоящая; к ним на Селигер приезжали настоящий президент, настоящий премьер. 60 тысяч настоящих Дедморозов шли по Ленинскому проспекту Москвы — шли ленинским путём. Они верили? Их организаторы и содержатели уж точно не верили ни в Бога, ни в чёрта. Включите телевизор и вы немедленно увидите актёров документального кино. Они говорят то, что полагается по роли; говорят то, что им велено; то, что им кто-то написал. Они изображают любовь к народу с той же целью, что проститутки изображают любовь к клиенту — ради денег. Как узнать, что это не человек, а актёр документального кино? Просто. Если он клянётся в патриотизме и проклинает Запад, а у самого виллы в Италии, в США и т.п. — значит, это актёр. Это народные артисты документального кино. Честные, чудесные девчонки-ткачихи. Но — будь как все, делай что велят. Оператор командует: клипсы снять! не надо улыбок! Он снимает серьёзный документальный фильм. Легкомыслию нет места. В пьесе Володина оператор появляется только в начале. В спектакле Панкова он на сцене всегда. Камера работает непрерывно. На двух экранах мы видим то, что видит камера, видим всякое. А потом в документальном фильме останется только то, что полагается. Не останется слёз, любовных признаний, обид. Начальник, который привёл в общежитие иностранную делегацию, командует переводчице: «Это не переводи!» — значит, кто-то из девочек сказал что-то лишнее. Начальник (в точности как оператор) знает, чего не должно быть. Он