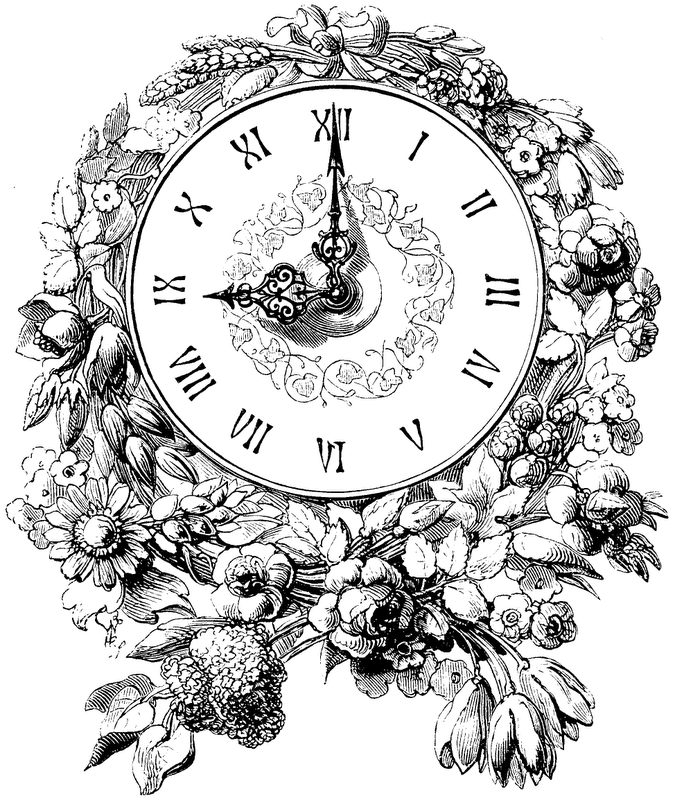3 июля лучшему советскому режиссеру Анатолию Эфросу исполнилось бы 95 лет. Его талант оставил яркий и неповторимый след в истории отечественного театра. Признанный при жизни, но увольняемый властями и предаваемый артистами. Достойный, совестливый, скромный, совершавший ошибки, порой роковые, прежде всего для самого себя. Не модный. Не медийный. Не жертва и не жертвенник. Просто истинный русский художник.
Кабала святош
Это был беспощадный по искренности и автобиографизму спектакль, хотя, конечно же, Оля Яковлева, годившаяся Эфросу по возрасту в дочери, в кровном родстве с ним не состояла — в отличие от Арманды Бежар де Мольер, которую она играла: по версии Булгакова, та была не только женой, но и дочерью Мольера.
Сплетни об отношениях Анатолия Васильевича и Яковлевой были только малой частью «кабалы святош» против Эфроса. Этот заговор, плетясь и разветвляясь, преследовал Эфроса всю жизнь, пока не перехлестнул через границы любезного отечества и не свел его в конце концов в могилу. «Банда!» — в сердцах воскликнул Эфрос на репетиции «Чайки» и поставил Чехова страстно, тенденциозно и односторонне: с точки зрения Треплева, который гибнет в смертельной схватке с мафией Тригорина–Аркадиной. Ошельмованный в сотнях постановках как декадент, Треплев для Эфроса — не только трагический, затравленный герой, но и «быть может, какой-нибудь Блок. Кто знает?»
«Мольер», «Чайка», «Три сестры», «Отелло», «Мизантроп» — это был нескончаемый опыт Эфроса по изучению механики интриги, кошмара интриги, цель которой уничтожение человека.
Спор с самим собой
Помню один наш с Эфросом разговор, который оставил у меня тяжелый осадок: он стал защищать то, что прежде ненавидел. Я понимал, это спор не со мной, а скорее с собой прежним. Но вот после стольких передряг с властями и чернью (в данном случае театральной — от русофильских критиков до обделенных при распределении ролей актеров), после потери театра, после запрещения его спектаклей, после обширного инфаркта судьба Эфроса наконец выровнялась, и он, совсем еще недавно человек резких экстримов, стал искать примирения с реальностью — чтобы его индивидуальное совпало с общим, государственным. Даже «Чайку» он хотел теперь поставить заново, иначе: не так раздражительно, менее эгоцентрично, более объективно, а Треплеву дать повседневный, не такой чрезвычайный характер.
Это было где-то в середине 70-х, как раз после инфаркта, из которого он чудом выкарабкался. Его смущали крайности и жесты — и чужие, и свои собственные, прежние. Он сказал мне, что готов теперь согласиться со своими критиками.
— И гонителями? — спросил я.
— Вы упрощаете, Володя.
— А разве ваша теперешняя нетерпимость к крайностям не есть сама по себе крайность?
Он рассмеялся, снимая напряжение:
— Это не крайность, а страсть.
— А прежде была не страсть?
В ответ последовала цитата:
Чтоб жить, должны мы клятвы забывать,
Которые торопимся давать!
Это было время, когда мир советской интеллигенции раскололся — на отъезжающих и остающихся. «Кто будет уезжать последним, не забудьте погасить свет!» — петушиный, отчаянный совет из тогдашнего анекдота, злободневная вариация на вечную тему «после нас хоть потоп». Более альтруистична апофегма Юрия Олеши: «Да здравствует мир без меня!». Но необходимы мужество и талант, чтобы на нее решиться. Сейчас отсюда, через океан, я уже не знаю, кому было тяжелее — остающимся или уезжающим, которые по крайней мере могли себе позволить громкие слова и широкие жесты. А тогдашний наш спор начался со статьи Евгения Богата, отца Ирины Богат, моего будущего редактора в издательстве «Захаров», которая придумала для третьего тиснения «Романа с эпиграфами» броское коммерческое название «Три еврея». Статья эта была напечатана в двух номерах «Литературки» про то, как школьницы избили до полусмерти свою подружку.
Эфрос притворился, что статьи не читал, вынудил меня ее пересказать. Он часто применял этот прием на репетициях, но я не актер и в его труппе не состоял. Я пересказал — тенденциозно, со своими комментариями. Эфрос, оговорив субъективность своих возражений и вынеся за скобки самосуд, который ему был так же отвратен, как и мне, сказал, однако, что жертва могла быть нечистоплотна, злословила, шпионила, ябедничала и вообще не вписывалась, была неадекватна. Я напомнил о плетении сплетни вокруг «неадекватных» Чацкого и мольеровского Альцеста — тоже ведь злословили, почище девочки, иногда без большой на то нужды.
— А кто вам сказал, что оба, со своей невыносимой желчью, были правы? — возразил Эфрос.
Насколько Эфросу было тяжело, можно было судить по оброненной им фразе:
— Остаться здесь труднее, чем уехать. И чтобы здесь жить и работать, необходимо большое мужество.
Отметина судьбы
Эфрос выбрал «остаться». Я это говорю не как о заслуге, хотя из пятерки ведущих советских режиссеров ему было тяжелее других. К прочим обстоятельствам добавлялось, что в отличие от Любимова или Ефремова ему повезло родиться евреем: чистокровным, типичным, ярко выраженным, местечковым. Факт биографии, который при определенных обстоятельствах становится отметиной судьбы. Когда мы сошлись ближе, я наслушался множество рассказов на этот сюжет от всех членов его семьи. Наташа Крымова рассказывала о переживаниях ее мамы, среднего калибра партийной дамы, когда та познакомилась со своим будущим зятем:
— Ну ладно, Эфрос, но чтоб так был похож!..
Насколько я знаю, Эфрос только однажды, да и то мимоходом, коснулся этой темы в своем творчестве, но поднял на такую трагическую, шекспиро-шейлоковскую высоту, что многим из нас, знавшим его лично, впервые стало понятно, как болезненно он ее воспринимал. Яичница, этот побочный, почти стаффажный персонаж гоголевской «Женитьбы», в постановке Эфроса выдвинулся на передний план, вровень с главными персонажами. Говорю о спектакле на Малой Бронной, где Эфрос проработал очередным режиссером 17 лет и жалел, что ушел на Таганку.
Это вообще в эстетических, да и в нравственных принципах Эфроса — для него не существовало второстепенных, побочных, маргинальных ролей, переживания всеми забытого Фирса не менее важны, чем переживания Раневской, массовку, кордебалет, древнегреческий хор он не признавал. Вот почему так сильно промахнулся тот знаменитый актер, который оскорбленно отказался от предложенной ему роли Яичницы — ввиду полной ее ничтожности.
А во что превратил ее с подсказки Эфроса другой знаменитый актер — Леонид Броневой, согласившись на роль? В трагедию, которая началась с самого рождения и продолжится до самой смерти, потому что, как каинова печать, поверх личных качеств, лежит на этом человеке проклятие — его фамилия: Яичница.
Комедия обернулась трагедией
Изначально Эфрос хотел поставить «Женитьбу» именно как комедию: приходил в себя в больнице после инфаркта и задумал веселый спектакль о совершенно невероятном событии, как Подколесин решил жениться, а в самый последний момент передумал и выпрыгнул в окно. Принесли ему в больницу пьесу — открыл он ее и стал читать:
«Вот как начнешь один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно надо жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится».
Над словом «скверность» Эфрос надолго задумался.
Уже поставив спектакль, он, словно оправдываясь, ссылался на самого Гоголя: мол, стоит чуть подольше приглядеться к комедии, как она легко обернется трагедией. Да и умели ли русские писатели сочинять чистые комедии?
Сцена разделена надвое, и каждая часть обрамлена рамой.
В одной — разноцветные диванчики, пуховички, клетки с попугаями и Агафья Тихоновна в центре: сдобная, экзотичная, мечтательная и беззащитная девушка, которой так хочется убежать от своей скверности, купеческого быдла и крутого одиночества и выйти замуж за человека, дворянина, Подколесина. «Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю», — говорит ей сваха Кочкарев, и с какой готовностью, с какой мукой и страстью отвечает она:
— Как же, давно готово!
Оля Яковлева так играла свою героиню, словно набирая с каждым эпизодом трагическую силу. Она была эфросовской Галатеей не в том смысле, что он влюбился в собственное творение, не только в том, а в том, что он создал ее, она была послушным, податливым материалом. Мою спутницу на этом спектакле — и спутницу в жизни Елену Клепикову — больше всего поразило, что режиссер-мужчина знает то, что, по ее мнению, известно только женщинам.
Впрочем, и о мужчинах Эфросу тоже кое-что было известно.
В соседней раме стояла наготове черная карета — и ничего больше.
Весь выбор.
Дом или табор?
Домоседство или скитальничество?
Рабство семьи, рода, отечества или одиночество свободы?
«Женитьба» была поставлена в разгар отъездов, и это был ответ Эфроса на мучительный вопрос — уезжать или оставаться? И ответ был так же сложен, как вопрос: Эфрос выбрал «остаться», а его героя в самый последний момент умчит черная карета.
Эфрос жил между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, или, как здесь говорят, between the rock and the hard place. Между семьей и Яковлевой, между властями и актерами, между театром и тенью Любимова, которую тот выслал в Москву, чтобы плести интригу и шантажировать соперника, а сам колесил по миру и ставил спектакли в Европе, Израиле, Америке.
Кто знает.
Эфрос отрепетировал свою смерть во многих спектаклях, а умер неожиданно, неподготовленно, как говорится, на посту — почти как его Мольер: через пару дней после проработочного собрания в Театре на Таганке. Был ему 61 год. Его родители умерли глубокими стариками всего годом раньше. Это к тому, что в нем был заложен генетический код долгожителя. Что-то в его смерти было зловещее и гнусное, какая-то скверность, словно заговор догнал его в конце концов и прикончил.
3 июля лучшему советскому режиссеру Анатолию Эфросу исполнилось бы 95 лет. Его талант оставил яркий и неповторимый след в истории отечественного театра. Признанный при жизни, но увольняемый властями и предаваемый артистами. Достойный, совестливый, скромный, совершавший ошибки, порой роковые, прежде всего для самого себя. Не модный. Не медийный. Не жертва и не жертвенник. Просто истинный русский художник. Кабала святош Это был беспощадный по искренности и автобиографизму спектакль, хотя, конечно же, Оля Яковлева, годившаяся Эфросу по возрасту в дочери, в кровном родстве с ним не состояла — в отличие от Арманды Бежар де Мольер, которую она играла: по версии Булгакова, та была не только женой, но и дочерью Мольера. Сплетни об отношениях Анатолия Васильевича и Яковлевой были только малой частью «кабалы святош» против Эфроса. Этот заговор, плетясь и разветвляясь, преследовал Эфроса всю жизнь, пока не перехлестнул через границы любезного отечества и не свел его в конце концов в могилу. «Банда!» — в сердцах воскликнул Эфрос на репетиции «Чайки» и поставил Чехова страстно, тенденциозно и односторонне: с точки зрения Треплева, который гибнет в смертельной схватке с мафией Тригорина–Аркадиной. Ошельмованный в сотнях постановках как декадент, Треплев для Эфроса — не только трагический, затравленный герой, но и «быть может, какой-нибудь Блок. Кто знает?» «Мольер», «Чайка», «Три сестры», «Отелло», «Мизантроп» — это был нескончаемый опыт Эфроса по изучению механики интриги, кошмара интриги, цель которой уничтожение человека. Фото из архива М. Коржель Спор с самим собой Помню один наш с Эфросом разговор, который оставил у меня тяжелый осадок: он стал защищать то, что прежде ненавидел. Я понимал, это спор не со мной, а скорее с собой прежним. Но вот после стольких передряг с властями и чернью (в данном случае театральной — от русофильских критиков до обделенных при распределении ролей актеров), после потери театра, после запрещения его спектаклей, после обширного инфаркта судьба Эфроса наконец выровнялась, и он, совсем еще недавно человек резких экстримов, стал искать примирения с реальностью — чтобы его индивидуальное совпало с общим, государственным. Даже «Чайку» он хотел теперь поставить заново, иначе: не так раздражительно, менее эгоцентрично, более объективно, а Треплеву дать повседневный, не такой чрезвычайный характер. Это было где-то в середине 70-х, как раз после инфаркта, из которого он чудом выкарабкался. Его смущали крайности и жесты — и чужие, и свои собственные, прежние. Он сказал мне, что готов теперь согласиться со своими критиками. — И гонителями? — спросил я. — Вы упрощаете, Володя. — А разве ваша теперешняя нетерпимость к крайностям не есть сама по себе крайность? Он рассмеялся, снимая напряжение: — Это не крайность, а страсть. — А прежде была не страсть? В ответ последовала цитата: Чтоб жить, должны мы клятвы забывать, Которые торопимся давать! Это было время, когда мир советской интеллигенции раскололся — на отъезжающих и остающихся. «Кто будет уезжать последним, не забудьте погасить свет!» — петушиный, отчаянный совет из тогдашнего анекдота, злободневная вариация на вечную тему «после нас хоть потоп». Более альтруистична апофегма Юрия Олеши: «Да здравствует мир без меня!». Но необходимы мужество и талант, чтобы на нее решиться. Сейчас отсюда, через океан, я уже не знаю, кому было тяжелее — остающимся или уезжающим, которые по крайней мере могли себе позволить громкие слова и широкие жесты. А тогдашний наш спор начался со статьи Евгения Богата, отца Ирины Богат, моего будущего редактора в издательстве «Захаров», которая придумала для третьего тиснения «Романа с эпиграфами» броское коммерческое название «Три еврея». Статья эта была напечатана в двух номерах «Литературки» про то, как школьницы избили до полусмерти свою подружку. Эфрос притворился, что статьи не читал, вынудил меня ее пересказать. Он часто применял этот прием на репетициях, но я не актер и в его труппе не состоял. Я пересказал — тенденциозно, со своими комментариями. Эфрос, оговорив субъективность своих возражений и вынеся за скобки самосуд, который ему был так же отвратен, как и мне, сказал, однако, что жертва могла быть нечистоплотна, злословила, шпионила, ябедничала и вообще не вписывалась, была неадекватна. Я напомнил о плетении сплетни вокруг «неадекватных» Чацкого и мольеровского Альцеста — тоже ведь злословили, почище девочки, иногда без большой на то нужды. — А кто вам сказал, что оба, со своей невыносимой желчью, были правы? — возразил Эфрос. Насколько Эфросу было тяжело, можно было судить по оброненной им фразе: — Остаться здесь труднее, чем уехать. И чтобы здесь жить и работать, необходимо большое мужество. Отметина судьбы Эфрос выбрал «остаться». Я это говорю не как о заслуге, хотя из пятерки ведущих советских режиссеров ему было тяжелее других. К прочим обстоятельствам добавлялось, что в отличие от Любимова или Ефремова ему повезло родиться евреем: чистокровным, типичным, ярко выраженным, местечковым. Факт биографии, который при определенных обстоятельствах становится отметиной судьбы. Когда мы сошлись ближе, я наслушался множество рассказов на этот сюжет от всех членов его семьи. Наташа Крымова рассказывала о переживаниях ее мамы, среднего калибра партийной дамы, когда та познакомилась со своим будущим зятем: — Ну ладно, Эфрос, но чтоб так был похож! Насколько я знаю, Эфрос только однажды, да и то мимоходом, коснулся этой темы в своем творчестве, но поднял на такую трагическую, шекспиро-шейлоковскую высоту, что многим из нас, знавшим его лично, впервые стало понятно, как болезненно он ее воспринимал. Яичница, этот побочный, почти стаффажный персонаж гоголевской «Женитьбы», в постановке Эфроса выдвинулся на передний план, вровень с главными персонажами. Говорю о спектакле на Малой Бронной, где Эфрос проработал очередным режиссером 17 лет и жалел, что ушел на Таганку. Это вообще в эстетических, да и в нравственных принципах Эфроса — для него не существовало второстепенных, побочных, маргинальных ролей, переживания всеми забытого Фирса не менее важны, чем переживания Раневской, массовку, кордебалет, древнегреческий хор он не признавал. Вот почему так сильно промахнулся тот знаменитый актер, который оскорбленно отказался от предложенной ему роли Яичницы — ввиду полной ее ничтожности. А во что превратил ее с подсказки Эфроса другой знаменитый актер — Леонид Броневой, согласившись на роль? В трагедию, которая началась с самого рождения и продолжится до самой смерти, потому что, как каинова печать, поверх личных качеств, лежит на этом человеке проклятие — его фамилия: Яичница. Комедия обернулась трагедией Изначально Эфрос хотел поставить «Женитьбу» именно как комедию: приходил в себя в больнице после инфаркта и задумал веселый спектакль о совершенно невероятном событии, как Подколесин решил жениться, а в самый последний момент передумал и выпрыгнул в окно. Принесли ему в больницу пьесу — открыл он ее и стал читать: «Вот как начнешь один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно надо жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится». Над словом «скверность» Эфрос надолго задумался. Уже поставив спектакль, он, словно оправдываясь, ссылался на самого Гоголя: мол, стоит чуть подольше приглядеться к комедии, как она легко обернется трагедией. Да и умели ли русские писатели сочинять чистые комедии? Сцена разделена надвое, и каждая часть обрамлена рамой. В одной — разноцветные диванчики, пуховички, клетки с попугаями и Агафья Тихоновна в центре: сдобная, экзотичная, мечтательная и беззащитная девушка, которой так хочется убежать от своей скверности, купеческого быдла и крутого одиночества и выйти замуж за человека, дворянина, Подколесина. «Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю», — говорит ей сваха Кочкарев, и с какой готовностью, с какой мукой и страстью отвечает она: — Как же, давно готово! Оля Яковлева так играла свою героиню, словно набирая с каждым эпизодом трагическую силу. Она была эфросовской Галатеей не в том смысле, что он влюбился в собственное творение, не только в том, а в том, что он создал ее, она была послушным, податливым материалом. Мою спутницу на этом спектакле — и спутницу в жизни Елену Клепикову — больше всего поразило, что режиссер-мужчина знает то, что, по ее мнению, известно только женщинам. Впрочем, и о мужчинах Эфросу тоже кое-что было известно. В соседней раме стояла наготове черная карета — и ничего больше. Весь выбор. Дом или табор? Домоседство или скитальничество? Рабство семьи, рода, отечества или одиночество свободы? «Женитьба» была поставлена в разгар отъездов, и это был ответ Эфроса на мучительный вопрос — уезжать или оставаться? И ответ был так же сложен, как вопрос: Эфрос выбрал «остаться», а его героя в самый последний момент умчит черная карета. Эфрос жил между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, или, как здесь говорят, between the rock and the hard place. Между семьей и Яковлевой, между властями и актерами, между театром и тенью Любимова, которую тот выслал в Москву, чтобы плести интригу и шантажировать соперника, а сам колесил по миру и ставил спектакли в Европе, Израиле, Америке. Кто знает. Эфрос отрепетировал свою смерть во многих спектаклях, а умер неожиданно, неподготовленно, как говорится, на посту — почти как его Мольер: через пару дней после проработочного собрания в Театре на Таганке. Был ему 61 год. Его родители умерли глубокими стариками всего годом раньше. Это к тому, что в нем был заложен генетический код долгожителя. Что-то в его смерти было зловещее и гнусное, какая-то скверность, словно заговор догнал его в конце концов и прикончил. Владимир Соловьев Заголовок в газете: История одной скверности Опубликован в газете