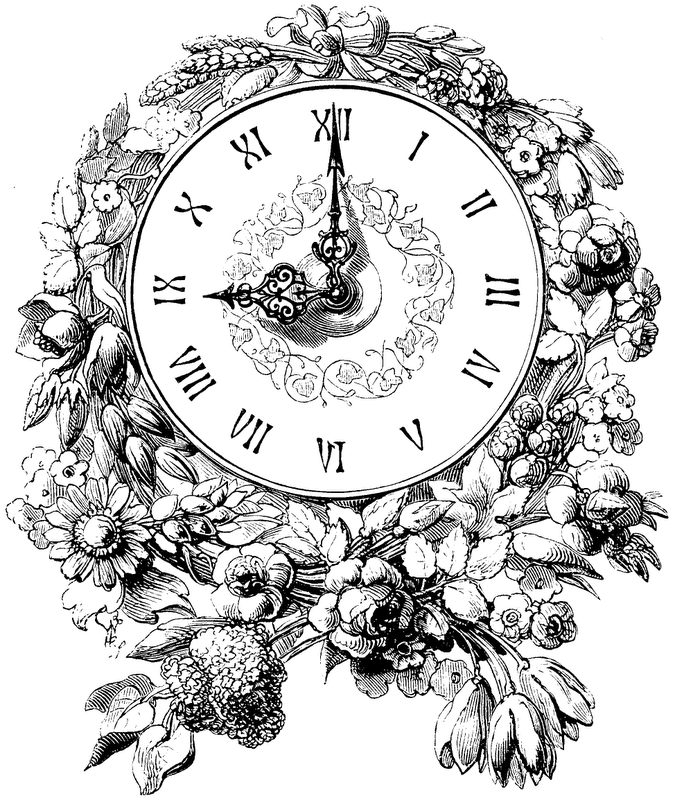Честно признаюсь: до самого недавнего времени я не был в числе особо горячих фанатов Алексея Константиновича. Но все изменилось, когда несколько месяцев назад мы оба оказались на рабочем ужине в одном из западноевропейских посольств в Москве. Моя миссия в тот вечер состояла в том, чтобы наслаждаться прекрасной кухней и слушать выступающих. А вот Алексею Пушкову пришлось гораздо тяжелее. На протяжении нескольких часов он был вынужден как единственный официальный представитель России беспрерывно отбивать словесные атаки самых разных иностранцев — и отбивать, надо сказать, блестяще, каждый раз находя изящные и убедительные аргументы и ни разу не попав в плен эмоций. «Как ему это удается?» — подумал я тогда про себя. Накануне юбилея Алексея Пушкова у меня появилась возможность узнать это у самого именинника.
— Алексей Константинович, вы родились в семье советского дипломата в Пекине. С какой страной связаны ваши первые детские воспоминания — с местом вашего рождения или все-таки с нашим государством?
— Мои самые первые воспоминания связаны, конечно, с Москвой, со старым московским районом между Тверской и Новослободской. Китай я не запомнил потому, что увезли меня оттуда в возрасте 3 лет. Другое дело, что в течение первого года после возвращения из Пекина у меня были некоторые трудности с моей бабушкой: я общался с ней преимущественно на китайском. Она утверждала, что мои родители привезли ей, как она выражалась, какого-то басурманина. Я просил у нее, скажем, ложку, а она мне давала хлеб. Это вызывало у нас, говоря языком дипломатов, определенные трения. Но где-то через полгода-год я восполнил свои знания русского языка, и все у нас наладилось. А по-китайски я говорил по той причине, что моей няней была китаянка. Отец работал в консульстве, мать была переводчицей в нашей группе советников, которая занималась созданием китайской промышленности. Я оставался дома с няней, и была у нас белая овчарка, которая меня сторожила. Так прошли первые три года моей жизни. Я их помню на уровне семейных преданий и семейных фотографий. У меня есть представление о том, как выглядела овчарка, как выглядела моя няня-китаянка — интеллигентная женщина в очках, и о том, как я сам выглядел в китайских одеждах. Как-то меня взяли на первомайскую демонстрацию, и члены китайского руководства держали меня на руках. Им я очень понравился, потому что был маленький, кругленький, розовый. Китайцы все желтенькие, а я был тогда такой бутуз другого цвета, но в китайской одежде. Их это очень умиляло. Но мои первые самостоятельные воспоминания, как я уже сказал, связаны все-таки с нашей страной, а потом уже с Парижем, в который моего отца направили работать в ЮНЕСКО, когда мне было пять с половиной лет.
— У вас были в детстве карьерные устремления, не связанные с международными отношениями?
— Мое первое карьерное устремление относится к сфере ихтиологии. В возрасте 15–16 лет я хотел заниматься изучением акул и собирался поступать на биологический факультет МГУ. Я был очень вдохновлен книгами Жак-Ива Кусто, с которым, когда моя семья жила во Франции, мне удалось кратко познакомиться. Я был тогда совсем мальчишкой, и впечатляющая фигура этого великого исследователя морей меня просто завораживала. В течение нескольких следующих лет я прочитал все книги Кусто и серьезно занимался изучением акул, их биологической историей и особенностями поведения. Но в конечном итоге перевесил тот факт, что отец у меня был кадровым дипломатом, а мать профессиональным переводчиком с китайского языка. Где-то ближе к окончанию школы все мы пришли к выводу: мне разумней идти по пути, на котором у меня уже есть определенные преимущества. К этому моменту у меня был сильный французский язык и хорошее знание европейской истории. С этими плюсами мне жалко было расставаться. Поэтому я расстался с ихтиологией и вместо морских акул стал изучать акул дипломатии и мировой политики.
— Почему вы пошли в журналистику, а не стали чистым дипломатом?
— Моя карьера началась на стыке дипломатии и политологии. После окончания МГИМО я поступил в аспирантуру этого института и в 1979 году защитил диссертацию об идеологических основах политики США по отношению к СССР с 1945 по 1975 год. В течение года после окончания вуза проработал в европейском отделении ООН в Женеве, а затем три года преподавал международные отношения в МГИМО. Меня всегда интересовала не столько дипломатическая практика, столько осмысление, понимание и прогнозирование внешней политики. Это в конце 80-х гг. привело меня в группу консультантов международного отдела ЦК КПСС, которая занималась двумя вещами: подготовкой политических выступлений М.Горбачева и других членов высшего руководства государства и написанием аналитических записок по важнейшим внешнеполитическим темам.
Я там проработал три года до того самого момента, когда СССР был распущен. После этого тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев дважды приглашал меня в МИД на должность советника министра. И дважды я отказывался, так как не видел сопряжения между моей позицией и политическими взглядами нового руководства на внешнюю политику. Государственный аппарат тогда развивался по принципу: будем делать все не так, как в Советском Союзе. Я с этим был несогласен. Во внешнеполитической деятельности СССР далеко не все было неверным. Многое было правильным и связанным с отстаиванием геополитических интересов страны. Отторжение всего того, что делал Советский Союз на мировой арене, и слепое следование за западными державами мне претило.
Я решил пойти в ту сферу, где мог выражать себя более свободно и независимо. Мне предложили должность заместителя главного редактора по международной политике в «Московских новостях». Тогда это было ведущее российское политическое издание с тиражом в 3,5 млн экземпляров. Главным редактором газеты в ту пору работал Лен Карпинский — один из немногих людей, кого я могу причислить к настоящим демократам. Он не относился к числу тех, для кого демократия была средством доступа к государственной казне. Политическая журналистика дала мне возможность использовать мои знания и опыт, не заставляя работать на ту политику, с которой я был несогласен. В результате я вернулся к политической деятельности только через 20 лет, когда был избран в Государственную Думу и возглавил Комитет по международным делам.
— За время вашей карьеры вы побывали во множестве стран и встретились со множеством интересных людей. Встречи с кем из них произвели на вас наиболее сильное впечатление?
— Да, мне удалось пообщаться со многими видными фигурами из мира политики и дипломатии — от Ричарда Никсона до Муаммара Каддафи. Сравнивать их между собой очень сложно. Я бы выделил нескольких людей и начал бы с Евгения Примакова. Примаков принадлежал к высшему кругу не только внешнеполитических деятелей, но и мыслителей. Он был человеком, который глубоко понимал логику международных отношений и логику наших интересов. Помню, в 1997 году в американской газете «Уолл-стрит джорнэл» вышла статья — обращение к Ельцину: «Увольте Примакова!». Тогда я ответил на это колонкой в «Независимой газете»: «Не увольняйте Примакова!». Кстати, весной 1998 года Примаков, который был тогда главой МИД, предложил мне возглавить управление внешнеполитического планирования министерства. Я был вынужден отказаться, поскольку уже дал согласие на создание собственной аналитической программы на канале ТВЦ. Но до сих пор испытываю сожаление, что мне не удалось поработать с Евгением Примаковым.
Рядом с Примаковым я бы поставил бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Я с ним встречался раз пять-шесть, он дважды давал интервью программе «Постскриптум». Но были у нас и отдельные встречи для углубленных бесед. Он меня всегда просил: «Расскажите мне, что на самом деле происходит в России?». Он очень внимательно слушал и задавал вопросы, которые показывали, что он хорошо понимает, что ему говорят. Бывают крупные люди, которые все знают заранее. Они знают, как мы себя должны вести, в чем мы не правы. У них все уже сформировано. Они нас учат. Киссинджер приезжал, чтобы понимать и делать выводы. Я с ним познакомился, когда ему уже было лет 75. Но по внимательности его взгляда, по точности вопросов и оценок он производил и по-прежнему производит глубокое впечатление.
Теперь про Европу. В Европе большое созвездие крупных фигур. Но среди этого созвездия я бы выделил бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена и бывшего министра обороны и внутренних дел Франции Жан-Пьера Шевенмана. С обоими я не раз встречался. Несмотря на свой солидный возраст, Жискар д’Эстен до сих пор выступает по вопросам внешней политики, сохраняет ясность ума, мышления, прекрасно помнит историю. Если вы почитаете французскую прессу, то увидите: когда речь идет о России, степень плюрализма равна там нулю. Кроме нескольких фигур особо высокого калибра, которые могут позволить себе поставить под сомнение общепринятое мнение, все остальные дудят в одну дуду. Жискар д’Эстен — одна из самых значимых подобных фигур. Я лично от него услышал такую фразу: «Крым исторически был русским. Когда лидеры стран антигитлеровской коалиции в 1943 году отправились на Ялтинскую конференцию, у них не было ощущения, что они едут на Украину!». А Шевенман мог себе позволить весной 2014 года, когда в Европе развернулась активная кампания против России, дать полосное интервью газете «Фигаро», в котором он поставил под сомнения все западные штампы о России и ее внешней политике.
Среди мировых лидеров особо высокого калибра, с которыми я встречался, я бы упомянул также основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Мне удалось с ним пообщаться в Москве, куда он приезжал на встречу с Владимиром Путиным и где для него помимо этого главного мероприятия была организована встреча с узким кругом людей. После этой встречи в Москве он пригласил меня в Сингапур выступить с лекциями в основанном им университете. Ли Куан Ю был крупной личностью и мудрым политиком. Я вообще заметил, что чем крупнее личность, тем меньше у нее желания что-то истерически выкрикивать. Если хотите, это прямой намек на большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, у которых слой политического интеллекта равен тем трем-четырем агрессивным тезисам, которые они способны исполнить на очередном заседании своей организации.
— Сказано очень эмоционально. Вы никогда не устаете от общения с враждебно настроенными иностранцами?
— Нет, я не устаю, хотя много выступаю перед разными зарубежными аудиториями. Самая враждебная из них — это уже упомянутая Парламентская ассамблея Совета Европы. Специализация ПАСЕ состоит в том, чтобы использовать малейший повод для того, чтобы атаковать Россию. А есть зарубежные площадки, которые в теории должны быть очень враждебными, но на которых все же получается серьезный разговор. Такова, например, Мюнхенская конференция по безопасности. При всех привычных для этой организации нападках на Россию, когда там начинается дискуссия с нашим участием, она обычно является достаточно содержательной. Нас там слушают очень внимательно. Пропагандистский подход уступает более серьезному. Последний раз я там выступал в прошлом году, когда полемизировал с бывшим государственным секретарем США Джоном Керри по поводу будущего Сирии. Наш разговор с участием министра иностранных дел Турции, министра обороны Ливана, а также председателя Лиги арабских государств вышел весьма интересным. Керри, естественно, во многом со мной не соглашался, но и не пытался при этом заработать очки на примитивных атаках на Россию. А по «ядерной сделке» с Ираном, над которой он работал вместе с Сергеем Лавровым, у нас вообще оказались близкие позиции.
Мне не раз доводилось выступать и в парламенте Франции, и всегда это были содержательные дискуссии. Кстати, та аудитория в западноевропейском посольстве в Москве, где вы тоже находились, оставила у меня чувство морального удовлетворения. На многие аргументы, которые я приводил от лица России, мои оппоненты не нашли достойных контраргументов. Выступления перед самыми разными аудиториями — часть моей работы. И не всегда неблагодарная часть. Вот пример: в начале июля, накануне визита Владимира Путина в Рим, мне предложили выступить перед большой итальянской аудиторией. Собралось человек 120–130. Зал был полон. Встреча длилась два часа, но я успел ответить далеко не на все вопросы. Интерес к России во многих европейских странах очень велик. Есть немало аудитории на Западе, которые ждут нашего слова — в том числе и потому, что сами страдают от одномерности политической информации в своих странах. И когда они слышат представителя из России, который на понятном им языке объясняет и аргументирует нашу позицию, они как минимум открывают для себя много нового.
— Последний вопрос: чего бы вы хотели сами себе пожелать на юбилей?
— Было бы правильнее прежде всего пожелать себе крепкого здоровья — чтобы организм не подвел. Знаете, бывает так, что человек на уровне ума, характера и на эмоциональном уровне еще далеко не пожилой, а организм уже начинает его подводить. Хотелось бы поэтому сохранить здоровье. И хотелось бы сохранить внимание и признание тех людей, которые меня слышат как в России, так и за рубежом. Людей, которые смотрят мою программу и которые на протяжении уже 21 года воспринимают то, что я говорю с телеэкрана, и не изменяют «Постскриптуму». И, конечно, хотелось бы сохранить внимание и самые теплые чувства со стороны тех людей, которые мне дороги.
Честно признаюсь: до самого недавнего времени я не был в числе особо горячих фанатов Алексея Константиновича. Но все изменилось, когда несколько месяцев назад мы оба оказались на рабочем ужине в одном из западноевропейских посольств в Москве. Моя миссия в тот вечер состояла в том, чтобы наслаждаться прекрасной кухней и слушать выступающих. А вот Алексею Пушкову пришлось гораздо тяжелее. На протяжении нескольких часов он был вынужден как единственный официальный представитель России беспрерывно отбивать словесные атаки самых разных иностранцев — и отбивать, надо сказать, блестяще, каждый раз находя изящные и убедительные аргументы и ни разу не попав в плен эмоций. «Как ему это удается?» — подумал я тогда про себя. Накануне юбилея Алексея Пушкова у меня появилась возможность узнать это у самого именинника. — Алексей Константинович, вы родились в семье советского дипломата в Пекине. С какой страной связаны ваши первые детские воспоминания — с местом вашего рождения или все-таки с нашим государством? — Мои самые первые воспоминания связаны, конечно, с Москвой, со старым московским районом между Тверской и Новослободской. Китай я не запомнил потому, что увезли меня оттуда в возрасте 3 лет. Другое дело, что в течение первого года после возвращения из Пекина у меня были некоторые трудности с моей бабушкой: я общался с ней преимущественно на китайском. Она утверждала, что мои родители привезли ей, как она выражалась, какого-то басурманина. Я просил у нее, скажем, ложку, а она мне давала хлеб. Это вызывало у нас, говоря языком дипломатов, определенные трения. Но где-то через полгода-год я восполнил свои знания русского языка, и все у нас наладилось. А по-китайски я говорил по той причине, что моей няней была китаянка. Отец работал в консульстве, мать была переводчицей в нашей группе советников, которая занималась созданием китайской промышленности. Я оставался дома с няней, и была у нас белая овчарка, которая меня сторожила. Так прошли первые три года моей жизни. Я их помню на уровне семейных преданий и семейных фотографий. У меня есть представление о том, как выглядела овчарка, как выглядела моя няня-китаянка — интеллигентная женщина в очках, и о том, как я сам выглядел в китайских одеждах. Как-то меня взяли на первомайскую демонстрацию, и члены китайского руководства держали меня на руках. Им я очень понравился, потому что был маленький, кругленький, розовый. Китайцы все желтенькие, а я был тогда такой бутуз другого цвета, но в китайской одежде. Их это очень умиляло. Но мои первые самостоятельные воспоминания, как я уже сказал, связаны все-таки с нашей страной, а потом уже с Парижем, в который моего отца направили работать в ЮНЕСКО, когда мне было пять с половиной лет. — У вас были в детстве карьерные устремления, не связанные с международными отношениями? — Мое первое карьерное устремление относится к сфере ихтиологии. В возрасте 15–16 лет я хотел заниматься изучением акул и собирался поступать на биологический факультет МГУ. Я был очень вдохновлен книгами Жак-Ива Кусто, с которым, когда моя семья жила во Франции, мне удалось кратко познакомиться. Я был тогда совсем мальчишкой, и впечатляющая фигура этого великого исследователя морей меня просто завораживала. В течение нескольких следующих лет я прочитал все книги Кусто и серьезно занимался изучением акул, их биологической историей и особенностями поведения. Но в конечном итоге перевесил тот факт, что отец у меня был кадровым дипломатом, а мать профессиональным переводчиком с китайского языка. Где-то ближе к окончанию школы все мы пришли к выводу: мне разумней идти по пути, на котором у меня уже есть определенные преимущества. К этому моменту у меня был сильный французский язык и хорошее знание европейской истории. С этими плюсами мне жалко было расставаться. Поэтому я расстался с ихтиологией и вместо морских акул стал изучать акул дипломатии и мировой политики. — Почему вы пошли в журналистику, а не стали чистым дипломатом? — Моя карьера началась на стыке дипломатии и политологии. После окончания МГИМО я поступил в аспирантуру этого института и в 1979 году защитил диссертацию об идеологических основах политики США по отношению к СССР с 1945 по 1975 год. В течение года после окончания вуза проработал в европейском отделении ООН в Женеве, а затем три года преподавал международные отношения в МГИМО. Меня всегда интересовала не столько дипломатическая практика, столько осмысление, понимание и прогнозирование внешней политики. Это в конце 80-х гг. привело меня в группу консультантов международного отдела ЦК КПСС, которая занималась двумя вещами: подготовкой политических выступлений М.Горбачева и других членов высшего руководства государства и написанием аналитических записок по важнейшим внешнеполитическим темам. Я там проработал три года до того самого момента, когда СССР был распущен. После этого тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев дважды приглашал меня в МИД на должность советника министра. И дважды я отказывался, так как не видел сопряжения между моей позицией и политическими взглядами нового руководства на внешнюю политику. Государственный аппарат тогда развивался по принципу: будем делать все не так, как в Советском Союзе. Я с этим был несогласен. Во внешнеполитической деятельности СССР далеко не все было неверным. Многое было правильным и связанным с отстаиванием геополитических интересов страны. Отторжение всего того, что делал Советский Союз на мировой арене, и слепое следование за западными державами мне претило. Я решил пойти в ту сферу, где мог выражать себя более свободно и независимо. Мне предложили должность заместителя главного редактора по международной политике в «Московских новостях». Тогда это было ведущее российское политическое издание с тиражом в 3,5 млн экземпляров. Главным редактором газеты в ту пору работал Лен Карпинский — один из немногих людей, кого я могу причислить к настоящим демократам. Он не относился к числу тех, для кого демократия была средством доступа к государственной казне. Политическая журналистика дала мне возможность использовать мои знания и опыт, не заставляя работать на ту политику, с которой я был несогласен. В результате я вернулся к политической деятельности только через 20 лет, когда был избран в Государственную Думу и возглавил Комитет по международным делам. С супругой. Фото: пресс-служба — За время вашей карьеры вы побывали во множестве стран и встретились со множеством интересных людей. Встречи с кем из них произвели на вас наиболее сильное впечатление? — Да, мне удалось пообщаться со многими видными фигурами из мира политики и дипломатии — от Ричарда Никсона до Муаммара Каддафи. Сравнивать их между собой очень сложно. Я бы выделил нескольких людей и начал бы с Евгения Примакова. Примаков принадлежал к высшему кругу не только внешнеполитических деятелей, но и мыслителей. Он был человеком, который глубоко понимал логику международных отношений и логику наших интересов. Помню, в 1997 году в американской газете «Уолл-стрит джорнэл» вышла статья — обращение к Ельцину: «Увольте Примакова!». Тогда я ответил на это колонкой в «Независимой газете»: «Не увольняйте Примакова!». Кстати, весной 1998 года Примаков, который был тогда главой МИД, предложил мне возглавить управление внешнеполитического планирования министерства. Я был вынужден отказаться, поскольку уже дал согласие на создание собственной аналитической программы на канале ТВЦ. Но до сих пор испытываю сожаление, что мне не удалось поработать с Евгением Примаковым. Рядом с Примаковым я бы поставил бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Я с ним встречался раз пять-шесть, он дважды давал интервью программе «Постскриптум». Но были у нас и отдельные встречи для углубленных бесед. Он меня всегда просил: «Расскажите мне, что на самом деле происходит в России?». Он очень внимательно слушал и задавал вопросы, которые показывали, что он хорошо понимает, что ему говорят. Бывают крупные люди, которые все знают заранее. Они знают, как мы себя должны вести, в чем мы не правы. У них все уже сформировано. Они нас учат. Киссинджер приезжал, чтобы понимать и делать выводы. Я с ним познакомился, когда ему уже было лет 75. Но по внимательности его взгляда, по точности вопросов и оценок он производил и по-прежнему производит глубокое впечатление. Теперь про Европу. В Европе большое созвездие крупных фигур. Но среди этого созвездия я бы выделил бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена и бывшего министра обороны и внутренних дел Франции Жан-Пьера Шевенмана. С обоими я не раз встречался. Несмотря на свой солидный возраст, Жискар д’Эстен до сих пор выступает по вопросам внешней политики, сохраняет ясность ума, мышления, прекрасно помнит историю. Если вы почитаете французскую прессу, то увидите: когда речь идет о России, степень плюрализма равна там нулю. Кроме нескольких фигур особо высокого калибра, которые могут позволить себе поставить под сомнение общепринятое мнение, все остальные дудят в одну дуду. Жискар д’Эстен — одна из самых значимых подобных фигур. Я лично от него услышал такую фразу: «Крым исторически был русским. Когда лидеры стран антигитлеровской коалиции в 1943 году отправились на Ялтинскую конференцию, у них не было ощущения, что они едут на Украину!». А Шевенман мог себе позволить весной 2014 года, когда в Европе развернулась активная кампания против России, дать полосное интервью газете «Фигаро», в котором он поставил под сомнения все западные штампы о России и ее внешней политике. Среди мировых лидеров особо высокого калибра, с которыми я встречался, я бы упомянул также основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Мне удалось с ним пообщаться в Москве, куда он приезжал на встречу с Владимиром Путиным и где для него помимо этого главного мероприятия была организована встреча с узким кругом людей. После этой встречи в Москве он пригласил меня в Сингапур выступить с лекциями в основанном им университете. Ли Куан Ю был крупной личностью и мудрым политиком. Я вообще заметил, что чем крупнее личность, тем меньше у нее желания