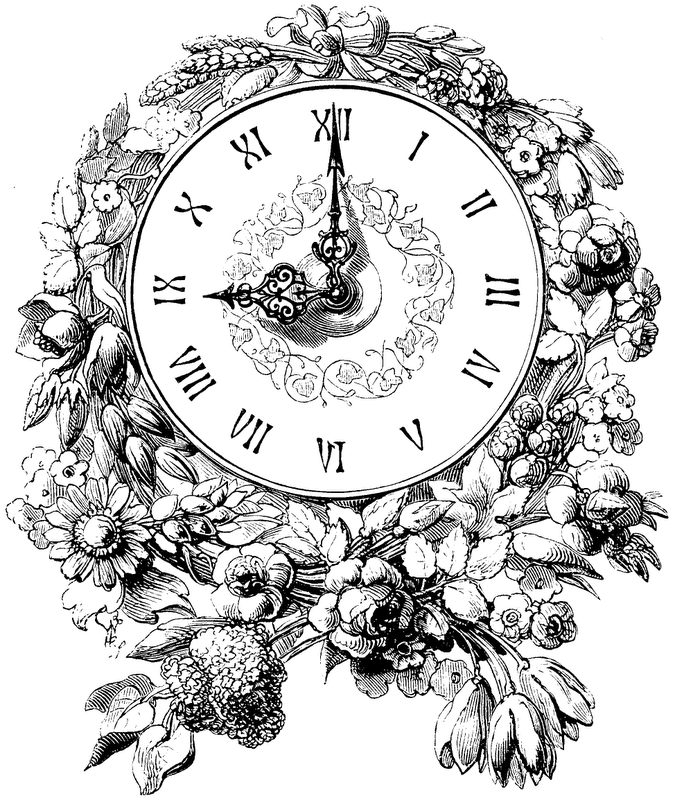Он — редкий тип театрального журналиста, который принципиально не работает Джеком-потрошителем. Но звезды ему, как какому-нибудь дипломированному психоаналитику, без особого сопротивления раскрывают свои тайны. С Вадимом ВЕРНИКОМ — сыном главного режиссера литдрамы Всесоюзного радио Эмиля Верника и братом популярного артиста Игоря Верника — под занавес сезона мы говорим о звездах театра (ушедшей эпохи и настоящих), беседы с которыми собраны в его первой книге — «Книге победителей». А еще — о мистических находках в журналистских завалах и обломах, которые случаются.
Плисецкая сразу предупредила, что ничего специально со своим лицом делать не будет
— Для меня интервью сродни психоанализу, но психоанализу позитивному, — говорит Вадим Верник. — Я убежден, что если ты человека, у которого берешь интервью, пытаешься спровоцировать, ударить исподтишка, он тут же закроется, причем с кулаками. А если ты к человеку расположен, то в таком случае гораздо больше можешь от него получить.
— То есть ты не Джек-потрошитель и отвергаешь провокационные приемы и вопросы?
— Я не отвергаю, но все равно даже они должны иметь позитивную тональность. Если мне человек неприятен, я лучше с ним общаться не буду. Но если ты хочешь от своего героя получить как можно больше информации, раскрыть его характер, внутренний мир, ты должен быть к нему расположен.
В этом смысле у меня был прекрасный опыт — Майя Михайловна Плисецкая… Мы знаем, как она «любила» главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича. Я снимал про Плисецкую документальный фильм в финском городке Миккеле (это такая музыкальная мекка) — она там в 96-м году выступала с труппой Гедиминаса Таранды. Каждый день мы с ней писали по небольшому кусочку интервью — и вот о чем бы мы ни говорили, она постоянно возвращалась к Григоровичу. Что делал я? Молча сидел, выслушивал, ждал, когда она выскажется, и после паузы шел дальше. Я понимал, что негативная энергия ее заряжает. И еще понимал: если буду раскручивать ее на негатив, ухватившись за фамилию Григорович, мы далеко уйдем. Но не туда, куда я хочу.
Ты, наверное, читала ее книгу «Я — Майя Плисецкая», где она пишет: «Я прожила большую жизнь и понимаю, что люди делятся на злых и добрых, и злых гораздо больше». И, естественно, в Миккеле на встречу с ней я ехал с предубеждением, понимая, какой у Плисецкой характер.
Кстати, когда я впервые увидел Майю Михайловну, то был поражен: какая же она маленькая, просто крохотного роста, но у нее красивейшие длинные руки и лебединая шея. Она меня сразу предупредила, что с 25 лет глуховата на одно ухо, прихрамывает на одну ногу, и ничего для съемки специально со своим лицом делать не будет. А у нее морщин было достаточно.
— Сколько же ей тогда было лет?
— 69–70. И вот наш первый съемочный день: как только включалась камера, у Плисецкой лицо тут же разглаживалось — ни одной морщинки, как будто жгутом его кто-то стянул. И как только камера выключалась, все морщинки возвращались. Я никогда такого не видел — ни до, ни после.
Так вот, в ту нашу встречу я увидел совершенно другую Плисецкую — позитивную, доброжелательную: как она общалась с танцорами на ежедневном уроке в балетном классе, какие точные замечания делала девочкам-балеринам… Мы сняли на камеру, как после одного спектакля она подошла к Алексею Ратманскому (в то время он был солистом Датского королевского театра) и сказала при всех, обращаясь почему-то ко мне: «Посмотри, как он идеально сложен, какие прекрасные формы!» Тот готов был провалиться сквозь землю от неловкости и восторженных слов Плисецкой.
Великая затворница
— В жизни каждого журналиста бывает подарок судьбы — уникальная встреча с уникальным человеком. И этой встречей ты потом всю жизнь гордишься. У тебя такая была?
— Не одна, но мне бесконечно дорога, например, встреча с Мариной Ладыниной. Собственно эссе о ней, подробно описывающее ту историческую встречу, и открывает книгу. Это был целый детективный сюжет…
Ладынина — дива советского кинематографа, как Марлен Дитрих. Но в свои 40 с небольшим лет закрылась и никого в свой мир не пускала. Великая затворница! А я в то время работал в еженедельнике «Неделя», и у нас вышел очерк о Ладыниной — его написал не я, а Виталий Вульф. И однажды в нашем отделе раздался звонок, я снял трубку и услышал бодрый женский голос: «Это с вами говорит Марина Ладынина». Я чуть не выронил трубку. «Хочу попросить у вас несколько экземпляров газеты». Я ее стал благодарить за звонок, а она говорит: «Да я вам могла бы еще столько рассказать интересного!» — «Так давайте», — говорю я, обнаглев от счастья. Она пригласила меня в гости, и мы с Виталием Яковлевичем отправились к ней в высотку на Котельнической набережной на чай. Но он попросил меня захватить с собой диктофон: «На всякий случай», — сказал Виталий Яковлевич.
Пришли. Открывает дверь эмоциональная подвижная женщина, на ней — яркая мохеровая малиновая кофта, и почему-то одна бигуди в волосах. Это выглядело комично, но сказать ей об этом было как-то неудобно. Позже она сама это заметила, улыбнулась и убрала бигуди. Небольшая двухкомнатная квартирка, на стенах — много фотографий, причем на большинстве из них — Иван Пырьев (это к вопросу о том, как она хотела «забыть» его. Да она жила им всю жизнь!). На столе — чай, печенье, все очень скромно.
Начали общаться. Вульф подал знак, чтоб я включил диктофон, а мне неудобно выкладывать его на стол, и я держу его на коленях. Ладынина угощает, рассказывает потрясающие вещи — интересно было все. Но в какой-то момент она останавливается: «Что это у вас за кнопка? — спрашивает. — Выключите, ничего рассказывать не буду, я пригласила вас просто на чай, пообщаться». Но Вульф, который с ней был на «ты» («Марина, перестань»), как-то переключил ее внимание, и я первый раз в жизни почувствовал себя папарацци, правда, весьма неловким. А Марина Ладынина рассказывала про Пырьева, про свои отношения с министром госбезопасности Виктором Абакумовым, про артистов Галину Уланову, Николая Черкасова, про внука, который звал ее просто Мэри… У нее было отличное настроение, и когда мы прощались, я предложил ей: «Раз есть запись, может быть, все-таки попробуем сделать материал?» — «Ну хорошо, напиши и покажи мне», — согласилась она. В газете по этому поводу — эйфория: как же, первое интервью Ладыниной (!) за много лет (!)… Мы его сразу анонсируем, и я делаю из диктофонной записи несколько новелл от лица звезды.
В общем, я все подготовил, пришел к ней, Марина Алексеевна прекрасно меня встретила. Даю ей читать — читает, и я вижу, как по ходу чтения у нее расширяются зрачки: «Вы хотите это напечатать? И это?! И это?!!» Она показывает интервью своей домработнице — та, конечно: «Категорически нет». И вслед за ней Ладынина два раза повторила: «Это печатать нельзя». И я понимаю, что наступает страшный момент в моей журналистской биографии: так триумф в одну секунду превращается в провал.
— Представляю, как ты летишь с вершины в бездну…
— Я, конечно, сник. Марина Алексеевна проводила меня до лифта и… — вот я никогда этого не забуду — обняла и сказала: «Миленький, я все понимаю, но ничего с собой поделать не могу. Может, когда-нибудь мы с тобой еще сделаем книгу». Открылись двери лифта, я вошел, двери закрылись, и больше Ладынину я никогда не видел.
Материал в газете не появился, но… с ним произошла мистическая история. Я ведь не планировал его включать в книгу, но когда работал над ней, то среди бумаг и документов неожиданно увидел эту старую расшифровку интервью. Я заново все прочел и понял, что, конечно же, этот материал должен войти в книгу. Это не только жизнь Ладыниной — это срез эпохи, в которой жила великая затворница, звезда советского кино.
«А это меня Сальвадор Дали нарисовал»
— Узнать закулисную, непарадную сторону жизни известных людей — по себе знаю — значит понять что-то про них совсем другое. Кто для тебя в этом смысле был открытием?
— Ну, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, конечно. И открытием для меня стало прежде всего то, что называется «кто в доме хозяин».
Мы снимали Вишневскую и Мстислава Ростроповича в их парижской квартире. Галина Павловна была в тапочках, а это уже создавало особую домашнюю атмосферу… Кстати, в это время в Лионской опере по биографической книге Вишневской ставилась опера «Галина» польского композитора Ландовского, которого мало кто знал, но он был другом семьи. Я помчался в Лион. И вот представь себе картину: вхожу в зал Лионской оперы, в зале сидит Вишневская, на сцене декорация — колонны Большого театра, портрет Сталина, и певица-американка, со сломанной рукой и вся из себя пышнотелая, репетирует еще пока не великую Вишневскую. Идет сцена прослушивания Вишневской в оперную труппу Большого…
А после Лиона мы уже встретились в парижской квартире. Готовим съемку, выстраиваем камеру, свет, звук на Вишневскую. Вдруг заходит Ростропович: «Я хочу поприсутствовать». — «Не надо тебе здесь быть», — говорит ему Галина Павловна. «Ах так, тогда я буду первым, а ты иди отсюда». Вишневская совершенно безропотно вышла, и я понял, что в их отношениях совершенно другая система координат, о которой никто и не догадывается.
А в таинственном кабинете Ростроповича, куда он никого не пускает (но нас он пустил!), оказывается, был чуть ли не склад виолончелей и ноты, разбросанные по полу. И еще — графический рисунок. «А это что?» — спрашиваю его. «А, это меня Сальвадор Дали нарисовал», — сказал он на ходу. Я смотрю — рисунок потрясающий: голова Ростроповича перетекает в тело, а тело — это уже виолончель. И вот такой шедевр, представляешь, пылится на полу!!!
Потом я вошел во вкус и спросил: «Галина Павловна, я могу пообщаться с вашей домработницей?» — «Ты что?! Я ее боюсь, я даже к ней подходить не буду», — сказала Вишневская. Я подошел к домработнице, и та стала рассказывать — конечно, не на камеру, — как она ненавидит «этот Париж» и вообще хочет скорее уехать в свою деревню где-то в дальнем Подмосковье. Тогда-то я понял, какие в этом доме кипят шекспировские страсти.
Еще меня поразили молодые руки Вишневской: на тот момент ей было под 70, а руки — идеально гладкие. Вот что это? Я не знаю. «Галина Павловна, как вам удается так выглядеть?» — спросил я. «У меня никаких секретов нет. Утром, проснувшись, я прохожу в ванну, и пока не умоюсь и не положу тон — я не смотрю на себя в зеркало».
«Я зашел в гримерку к Раппопорт, закрыл на ключ изнутри и в лоб спросил…»
— Это были гиганты, мощные личности, но, увы, из прошлой эпохи. С нынешними звездными людьми, у которых капризные агенты, директора, заморочки и высокие ставки, тебе легче или сложнее работать?
— У меня со многими героями свои особые отношения, своя история. Например, Костя Хабенский: я его знаю с четвертого курса театрального института, когда он был совсем неизвестным, а мы уже тогда, что называется, зацепились языками на фестивале в Калининграде. Там он был с однокурсниками, среди них — Миша Пореченков и Миша Трухин; они привезли спектакль «Высоцкий». Позже Костя переехал в Москву, работал в «Сатириконе» некоторое время, и, надо сказать, не очень удачно. Он потом рассказывал, что когда кто-то из его родственников пришел на «Трехгрошовую оперу», то после спектакля спросил: «Спектакль хороший. Но ты-то почему не вышел на сцену?» — хотя Костя там участвовал. Потом он вернулся в Питер и сыграл одну из самых значительных своих ролей — Калигулу в одноименном спектакле.
А Ксения Раппопорт… Я ее обожаю, хотел снять в своей передаче «Кто там…», но это было совершенно невозможно: она упорно отказывалась. И вот, во время съемки в Москве другого питерского актера, я набрался наглости, решительно зашел после спектакля к ней в гримерку, попросил всех выйти (я вообще-то мягкий, но когда надо, проявляю жесткость), закрыл дверь на ключ изнутри и в лоб спросил: «Ксения, почему вы так не хотите со мной общаться?» — «Я недавно видела вашу программу с Чулпан Хаматовой, — сказала она. — Вы вытаскиваете душу, пытаетесь раскрыть внутренний мир, а я про это не хочу говорить». Но все-таки мы договорились о сьемке, записали в Питере потрясающий разговор и даже погуляли по городу.
Возвращаюсь в Москву в полной эйфории, но звонит оператор Слава Гусев: «Не знаю, как тебе сказать… Короче, звук записался, а картинка — нет». Я молча положил трубку (а что тут скажешь?) и начал тихо умирать… Но, видимо, есть что-то где-то там наверху: через неделю оператор позвонил снова и сказал, что сам не понимает, каким образом, но картинку ему «вытащили».
— Ты со звездами гуляешь по Петербургу, со всеми на дружеской ноге. Тебе не кажется, что отсутствие дистанции чревато для тебя несвободой? Ведь друга легче попросить, чем журналиста: «Знаешь, Вадик, об этом не пиши. Политики и острых тем не касаемся». А есть такие, кто тебя не любит?
— Во-первых, я политики в своих интервью и не касаюсь. Для меня важен характер героя, его творческая позиция, а не политические взгляды. Да я, честно говоря, и не встречал актеров или режиссеров, кто активно хотел бы говорить об этом в нашем интервью. Ко всем своим героям я отношусь с уважением. А иначе, считаю, зачем тратить время на общение?
А во-вторых, насчет любви-нелюбви… Мне как-то не попадались те, кто выражал бы свою неприязнь ко мне. Хотя, возможно, такое и случалось, просто я этого не замечал и интуитивно минусы превращал в плюсы.
Если же кто-то в разговоре просит не касаться определенной темы — я ее обойду, но только в данную минуту, а чуть позже обязательно к ней вернусь. Если, конечно, мне это необходимо. И обязательно задам неприятный вопрос, но только в «приятной» упаковке. Как правило, это срабатывает. Я это делаю не для того, чтобы поставить человека в неловкое положение, а чтобы саму ситуацию прояснить, очистить ее от шелухи, слухов и сплетен.
Но, кстати, я пишу не только об актерах. В «Книге победителей» у меня беседы и с Татьяной Анатольевной Тарасовой, которую обожаю, и Татьяной Навкой — ее я считаю Плисецкой в спорте.
— Обломы у тебя были?
— Да, были. Не состоялись у меня интервью с Еленой Сафоновой и с прекраснейшей Ириной Купченко — это была стена, и я не мог ее преодолеть. А Ирина Муравьева… Несколько лет дозванивался, уговаривал, а она: «Не буду, не хочу». Но потом мы как-то встретились на фестивале в Юрмале, вместе с Игорем стали с ней общаться. У нее же потрясающий юмор, и при этом она очень закрытая. И, к счастью, мы сделали интервью. И Марина Неелова тоже закрытая, неохотно идет на контакт. Но мне повезло сделать с ней интервью.
«Я дал себе слово никогда не общаться с Игорем публично»
— Вадим, скажи честно: фамилия Верник тебе больше помогала или мешала?
— Фамилия особо не помогала, а вот помогла мне Наталья Александровна Дардыкина (старейший журналист «МК». — М.Р. ). Когда я окончил театроведческий факультет ГИТИСа, не мог устроиться никуда на работу: мечтал о литчасти в театре, но все места во всех театрах были заняты. Позвонил в «Московский комсомолец», представился и спросил: «Нет ли у вас для меня задания?» — «Есть, и очень интересное. Мы собираемся сделать дискуссию о молодых актерах. Запишите интервью с Марком Захаровым». Я потом Наталью Александровну спрашивал: почему она мне, «чайнику» в журналистике, поручила такое сложное задание? «А мне твой голос понравился», — сказала она. И я, как человек, который не умел плавать, оказался в кипучей реке и поплыл. Спасибо Наталье Александровне! И самое первое мое интервью в «МК» было подписано как Вадим Верник, в то время как у всех остальных корреспондентов перед фамилией стоял только инициал с точкой.
— Ты — профессиональный собеседник, у тебя сотни интервью, и тем, кого ты записывал, я считаю, крупно повезло. Однако твой брат-двойняшка, актер Московского Художественного театра Игорь Верник, не избалован вниманием журналиста Вадима Верника…
— Однажды, работая в еженедельнике «Неделя», я взял интервью у Игоря. Он тогда уже играл в театре, много снимался, работал активно на телевидении, и главный редактор предложил мне сделать с Игорем такой братский разговор. Братья очень хорошо поговорили, но когда я показал Игорю текст, который уже хотел напечатать, он — категорически: «Я так не говорю, это не мой стиль». Хотя его слова я практически не правил: у Игоря хороший слог. В общем, в нашем споре чуть не дошло до рукоприкладства! Крик стоял на весь дом, хотя была уже ночь… С тех пор я дал себе слово никогда больше не общаться с Игорем публично. Но, как говорится, никогда не говори «никогда»: мы сейчас вместе ведем программу «2 ВЕРНИК 2» на канале «Культура», и я счастлив. Мы, конечно, разные по характеру, по темпераменту, но внутренне очень близки.
— Надеюсь, вы в детстве пользовались вашим сходством, как все близнецы, даже если они — разнояйцовые?
— В детстве нас не путали, потому что мы не похожи внешне. И родители всегда культивировали наше различие, нас никогда одинаково не одевали. К сожалению, у нас не получалось пользоваться тем, что мы братья. Мы учились в одном классе, и однажды я подошел к учительнице по истории и попросил ее поставить мне в аттестат «пятерку» Игоря, а ему — мою «четверку». Мотивировал тем, что мне при поступлении в ГИТИС на театроведческий это важнее, чем брату, который собирался поступать на актерский. Но учительница посмотрела на меня таким выразительным взглядом, что я все понял без слов.
Кстати, из-за Игоря мое поступление в ГИТИС оказалось под угрозой. Как мне сказали позже, один уважаемый педагог был категорически против. «Какой-то несерьезный у нас абитуриент Верник, — поделился он своими опасениями с коллегами. — Он никак не может определиться, чего ему хочется: то на актерский поступает, то на театроведческий…» К счастью, кто-то знающий из приемной комиссии объяснил ему, что вообще-то это два брата Верника, и у каждого из них свои интересы.
— В биографии каждого журналиста есть материал, за который потом бывает стыдно. У меня, например, парочка таких на совести есть, мучают до сих пор. А у тебя как с этим?
— Была одна история, но не звездная. Я тогда работал в «Неделе», в отделе информации, делал заметки, репортажи. Как-то возвращаюсь домой на метро перед самым его закрытием. Машинист объявляет, что поезд следует до «Белорусской», а мне нужно на «Проспект Мира». Денег на такси нет, и я не понимаю, как буду добираться домой от Белорусского вокзала… Но тут машинист объявляет: «Кому надо дальше — подойдите к кабине машиниста». Я не понял, что бы это значило, но на всякий случай подошел, сказал, что мне на «Проспект Мира», и он назвал, сколько это будет стоить. Стоило значительно дешевле, чем на такси, и он меня одного прокатил по подземке.
Короче, я как репортер был поражен его такой находчивостью и не мог про это не написать, причем с позитивной оценкой: как я благодарен ему и как это здорово для тех, кто работает допоздна. Правда, не написал его фамилию. А через несколько дней в редакцию позвонил какой-то начальник из метрополитена, стал пытать меня, что это за машинист и по какому маршруту вез меня за деньги. «Я вам никогда не скажу, потому что у человека такая смекалка, хотя он, может, и совершил неправильный поступок», — сказал я. Не сдал его, но боль какая-то во мне сидела долго: из-за меня же его могли уволить.
— Работая со звездами разных поколений, какой главный вывод ты делаешь об этих людях?
— Мне безумно нравится фраза Шекспира из «Короля Лира»: «Из ничего не будет ничего». Талант — это дар Бога, но если у тебя нет внутреннего стержня, напора и желания пробиться, если ты пасуешь перед неудачами, которые у каждого случаются, ничего у тебя не получится. А если ты способен в этих провалах не потеряться, не сломаться, а делаешь какие-то правильные выводы, что позволяют подняться над собой, — ты станешь победителем. Вот это для меня самое ценное в моих героях. И потом, каждую историю я перевожу на себя: а как бы я поступил в этой ситуации?
— Теперь у тебя такой звездный пул. Твои советы молодым журналистам: как работать со звездными артистами, чтобы не обжечься и не спалиться?
— Мои советы начинающим журналистам? Главное — любить то, чем вы занимаетесь. И никогда не ставьте себе искусственно рамки и преграды: пиетет в общении со звездами — штука хороша, но все-таки это живые люди, и у каждого свой характер, своя энергия и манера мышления. Все это надо почувствовать и этому соответствовать.
Я очень люблю фразу Базарова в «Отцах и детях»: «Аркадий, не говори красиво». За красивыми словами и оборотами может быть пустота и бессмыслица, а все-таки каждый раз хочется «дойти до самой сути». Иначе зачем заниматься журналистикой?
Он — редкий тип театрального журналиста, который принципиально не работает Джеком-потрошителем. Но звезды ему, как какому-нибудь дипломированному психоаналитику, без особого сопротивления раскрывают свои тайны. С Вадимом ВЕРНИКОМ — сыном главного режиссера литдрамы Всесоюзного радио Эмиля Верника и братом популярного артиста Игоря Верника — под занавес сезона мы говорим о звездах театра (ушедшей эпохи и настоящих), беседы с которыми собраны в его первой книге — «Книге победителей». А еще — о мистических находках в журналистских завалах и обломах, которые случаются. фото: Из личного архива Плисецкая сразу предупредила, что ничего специально со своим лицом делать не будет — Для меня интервью сродни психоанализу, но психоанализу позитивному, — говорит Вадим Верник. — Я убежден, что если ты человека, у которого берешь интервью, пытаешься спровоцировать, ударить исподтишка, он тут же закроется, причем с кулаками. А если ты к человеку расположен, то в таком случае гораздо больше можешь от него получить. — То есть ты не Джек-потрошитель и отвергаешь провокационные приемы и вопросы? — Я не отвергаю, но все равно даже они должны иметь позитивную тональность. Если мне человек неприятен, я лучше с ним общаться не буду. Но если ты хочешь от своего героя получить как можно больше информации, раскрыть его характер, внутренний мир, ты должен быть к нему расположен. В этом смысле у меня был прекрасный опыт — Майя Михайловна Плисецкая… Мы знаем, как она «любила» главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича. Я снимал про Плисецкую документальный фильм в финском городке Миккеле (это такая музыкальная мекка) — она там в 96-м году выступала с труппой Гедиминаса Таранды. Каждый день мы с ней писали по небольшому кусочку интервью — и вот о чем бы мы ни говорили, она постоянно возвращалась к Григоровичу. Что делал я? Молча сидел, выслушивал, ждал, когда она выскажется, и после паузы шел дальше. Я понимал, что негативная энергия ее заряжает. И еще понимал: если буду раскручивать ее на негатив, ухватившись за фамилию Григорович, мы далеко уйдем. Но не туда, куда я хочу. Ты, наверное, читала ее книгу «Я — Майя Плисецкая», где она пишет: «Я прожила большую жизнь и понимаю, что люди делятся на злых и добрых, и злых гораздо больше». И, естественно, в Миккеле на встречу с ней я ехал с предубеждением, понимая, какой у Плисецкой характер. Кстати, когда я впервые увидел Майю Михайловну, то был поражен: какая же она маленькая, просто крохотного роста, но у нее красивейшие длинные руки и лебединая шея. Она меня сразу предупредила, что с 25 лет глуховата на одно ухо, прихрамывает на одну ногу, и ничего для съемки специально со своим лицом делать не будет. А у нее морщин было достаточно. — Сколько же ей тогда было лет? — 69–70. И вот наш первый съемочный день: как только включалась камера, у Плисецкой лицо тут же разглаживалось — ни одной морщинки, как будто жгутом его кто-то стянул. И как только камера выключалась, все морщинки возвращались. Я никогда такого не видел — ни до, ни после. Так вот, в ту нашу встречу я увидел совершенно другую Плисецкую — позитивную, доброжелательную: как она общалась с танцорами на ежедневном уроке в балетном классе, какие точные замечания делала девочкам-балеринам… Мы сняли на камеру, как после одного спектакля она подошла к Алексею Ратманскому (в то время он был солистом Датского королевского театра) и сказала при всех, обращаясь почему-то ко мне: «Посмотри, как он идеально сложен, какие прекрасные формы!» Тот готов был провалиться сквозь землю от неловкости и восторженных слов Плисецкой. фото: Из личного архива С Майей Плисецкой. Великая затворница — В жизни каждого журналиста бывает подарок судьбы — уникальная встреча с уникальным человеком. И этой встречей ты потом всю жизнь гордишься. У тебя такая была? — Не одна, но мне бесконечно дорога, например, встреча с Мариной Ладыниной. Собственно эссе о ней, подробно описывающее ту историческую встречу, и открывает книгу. Это был целый детективный сюжет… Ладынина — дива советского кинематографа, как Марлен Дитрих. Но в свои 40 с небольшим лет закрылась и никого в свой мир не пускала. Великая затворница! А я в то время работал в еженедельнике «Неделя», и у нас вышел очерк о Ладыниной — его написал не я, а Виталий Вульф. И однажды в нашем отделе раздался звонок, я снял трубку и услышал бодрый женский голос: «Это с вами говорит Марина Ладынина». Я чуть не выронил трубку. «Хочу попросить у вас несколько экземпляров газеты». Я ее стал благодарить за звонок, а она говорит: «Да я вам могла бы еще столько рассказать интересного!» — «Так давайте», — говорю я, обнаглев от счастья. Она пригласила меня в гости, и мы с Виталием Яковлевичем отправились к ней в высотку на Котельнической набережной на чай. Но он попросил меня захватить с собой диктофон: «На всякий случай», — сказал Виталий Яковлевич. Пришли. Открывает дверь эмоциональная подвижная женщина, на ней — яркая мохеровая малиновая кофта, и почему-то одна бигуди в волосах. Это выглядело комично, но сказать ей об этом было как-то неудобно. Позже она сама это заметила, улыбнулась и убрала бигуди. Небольшая двухкомнатная квартирка, на стенах — много фотографий, причем на большинстве из них — Иван Пырьев (это к вопросу о том, как она хотела «забыть» его. Да она жила им всю жизнь!). На столе — чай, печенье, все очень скромно. Начали общаться. Вульф подал знак, чтоб я включил диктофон, а мне неудобно выкладывать его на стол, и я держу его на коленях. Ладынина угощает, рассказывает потрясающие вещи — интересно было все. Но в какой-то момент она останавливается: «Что это у вас за кнопка? — спрашивает. — Выключите, ничего рассказывать не буду, я пригласила вас просто на чай, пообщаться». Но Вульф, который с ней был на «ты» («Марина, перестань»), как-то переключил ее внимание, и я первый раз в жизни почувствовал себя папарацци, правда, весьма неловким. А Марина Ладынина рассказывала про Пырьева, про свои отношения с министром госбезопасности Виктором Абакумовым, про артистов Галину Уланову, Николая Черкасова, про внука, который звал ее просто Мэри… У нее было отличное настроение, и когда мы прощались, я предложил ей: «Раз есть запись, может быть, все-таки попробуем сделать материал?» — «Ну хорошо, напиши и покажи мне», — согласилась она. В газете по этому поводу — эйфория: как же, первое интервью Ладыниной (!) за много лет (!)… Мы его сразу анонсируем, и я делаю из диктофонной записи несколько новелл от лица звезды. В общем, я все подготовил, пришел к ней, Марина Алексеевна прекрасно меня встретила. Даю ей читать — читает, и я вижу, как по ходу чтения у нее расширяются зрачки: «Вы хотите это напечатать? И это?! И это?!!» Она показывает интервью своей домработнице — та, конечно: «Категорически нет». И вслед за ней Ладынина два раза повторила: «Это печатать нельзя». И я понимаю, что наступает страшный момент в моей журналистской биографии: так триумф в одну секунду превращается в провал. — Представляю, как ты летишь с вершины в бездну… — Я, конечно, сник. Марина Алексеевна проводила меня до лифта и… — вот я никогда этого не забуду — обняла и сказала: «Миленький, я все понимаю, но ничего с собой поделать не могу. Может, когда-нибудь мы с тобой еще сделаем книгу». Открылись двери лифта, я вошел, двери закрылись, и больше Ладынину я никогда не видел. Материал в газете не появился, но… с ним произошла мистическая история. Я ведь не планировал его включать в книгу, но когда работал над ней, то среди бумаг и документов неожиданно увидел эту старую расшифровку интервью. Я заново все прочел и понял, что, конечно же, этот материал должен войти в книгу. Это не только жизнь Ладыниной — это срез эпохи, в которой жила великая затворница, звезда советского кино. «А это меня Сальвадор Дали нарисовал» — Узнать закулисную, непарадную сторону жизни известных людей — по себе знаю — значит понять что-то про них совсем другое. Кто для тебя в этом смысле был открытием? — Ну, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, конечно. И открытием для меня стало прежде всего то, что называется «кто в доме хозяин». Мы снимали Вишневскую и Мстислава Ростроповича в их парижской квартире. Галина Павловна была в тапочках, а это уже создавало особую домашнюю атмосферу… Кстати, в это время в Лионской опере по биографической книге Вишневской ставилась опера «Галина» польского композитора Ландовского, которого мало кто знал, но он был другом семьи. Я помчался в Лион. И вот представь себе картину: вхожу в зал Лионской оперы, в зале сидит Вишневская, на сцене декорация — колонны Большого театра, портрет Сталина, и певица-американка, со сломанной рукой и вся из себя пышнотелая, репетирует еще пока не великую Вишневскую. Идет сцена прослушивания Вишневской в оперную труппу Большого… А после Лиона мы уже встретились в парижской квартире. Готовим съемку, выстраиваем камеру, свет, звук на Вишневскую. Вдруг заходит Ростропович: «Я хочу поприсутствовать». — «Не надо тебе здесь быть», — говорит ему Галина Павловна. «Ах так, тогда я буду первым, а ты иди отсюда». Вишневская совершенно безропотно вышла, и я понял, что в их отношениях совершенно другая система координат, о которой никто и не догадывается. А в таинственном кабинете Ростроповича, куда он никого не пускает (но нас он пустил!), оказывается, был чуть ли не склад виолончелей и ноты, разбросанные по полу. И еще — графический рисунок. «А это что?» — спрашиваю его. «А, это меня Сальвадор Дали нарисовал», — сказал он на ходу. Я смотрю — рисунок потрясающий: голова Ростроповича перетекает в тело, а тело — это уже виолончель. И вот такой шедевр, представляешь, пылится на полу!!! Потом я вошел во вкус и спросил: «Галина Павловна, я могу пообщаться с вашей домработницей?» — «Ты что?! Я ее боюсь, я даже к ней подходить не буду», — сказала Вишневская. Я подошел к домработнице, и та стала рассказывать — конечно, не на камеру, — как она ненавидит «этот Париж» и вообще хочет скорее уехать в свою деревню где-то в дальнем Подмосковье. Тогда-то я понял, какие в этом доме кипят шекспировские страсти. Еще меня поразили молодые руки