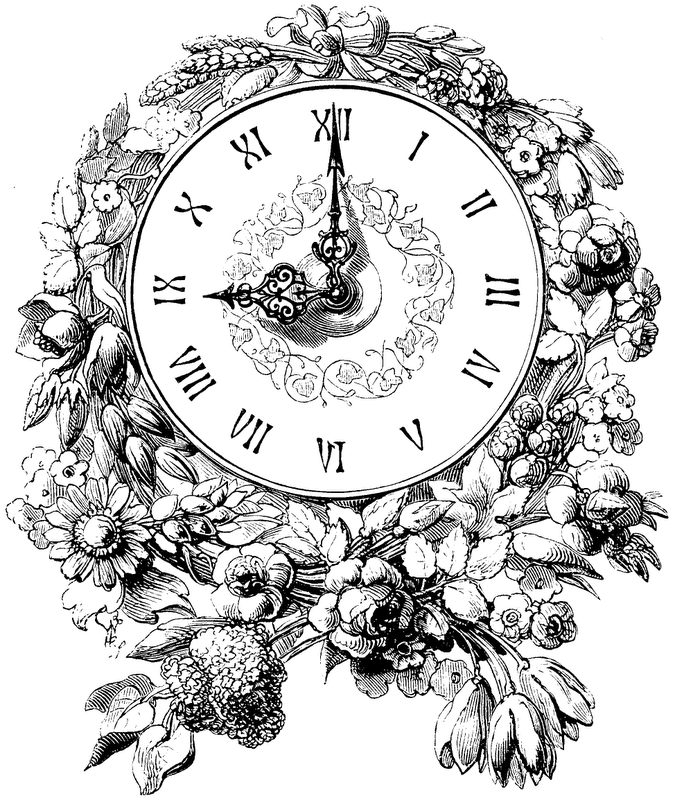Продолжаем публикацию романа Андрея Яхонтова «Божья Копилка». Сегодня — заключительная часть первой книги. О чём в ней речь?
Возможно, вам небезынтересно узнать, как происходят на небе предварительные, предшествующие Страшному (или всё же не очень страшному) Суду разбирательства, по каким критериям облаченные в мантии беспристрастные (или всё же весьма пристрастные) взвешивальщики проступков выносят вердикты и назначают наказание или безоговорочно прощают грешников. Тогда не запирайте своё любопытство в долгий ящик, а окунайтесь в атмосферу выволакивания на свет тайных деяний и помыслов тех, кто предстал перед строгими (или щадящими) помощниками Всевышнего.
МУЗЕЙ ГРОБОВ
В Вену Петр Былеев прибыл с твердым намерением: воздать, как обещал музыкальной парочке, должное Моцарту и разыскать конгресс социалистов – о нем трубили газеты – на сборище мог присутствовать непунктуальный революционер, стребовать с него ладанку стало делом принципа.
Путеводители извещали: фамильная усыпальница Моцартов находится в Зальцбурге (памятник в Вене не таит под собой телесных останков и лишь формально удостоверяет принадлежность гения австрийской столице), однако, и посещение провинциального захоронения представало – как бы точнее выразиться? – безадресным: тело в склепе отсутствовало, череп Иоганна Вольфганга Теофила, полнившийся симфонической многоголосицей, обнаружили (Петр смутно помнил, об этом говорилось в глянцевой программке салонного концерта у Олениной Д,Альгейм – Петр посещал эти оперные московские вечера вместе с сестрами) при раскопках кладбища Святого Марка в предместье Вены. Ограничиться преподнесением букета пустоте казалось недостойным автора бессмертного «Реквиема». Еще один справочник, купленный Петром в привокзальной толчее, дополнил сумятицу: «Череп, обретенный при разгребании окраинного погоста, принадлежит не Моцарту, а неверной ему супруге. Сам величайший композитор (и вертопрах), угасший в расцвете сил, предан земле в присыпанной негашеной известью чумной яме; обозначений над насыпью не сделали – потому захоронение потерялось». Где же покоились подлинные мощи?
Бывает, кумиров (согласно их прихоти или по приказу устроителей траурных бдений) расчленяют после кончины (хорощо, что не прижизненно) и рассредоточивают: сердце заключают в запаянный (не для питья предназначенный) кубок, обессердеченное туловище делят на фрагменты и распределяют по всемирно известным некрополям, храмам и прочим очагам цивилизации (дабы обитающие в отдалении от центров культуры почитатели прекрасного не ощущали своей отринутости) или сжигают, а пепел опять-таки развеивают; говорят, в приобщительно-просветительских целях рассечены поэты Бернс, Байрон, Гете, Гейне (кто-то из них так и озаглавил стихотворение: «В горах мое сердце!»). По утверждению Распутина подобная участь постигнет борца за независимость Польши гетмана Пилсудского.
Имя и лик превращенного в идола непонятно где зарытого национального исполина – вдохновенного победителя вечности! – тиражировались еще и пошловатыми названиями магазинов и кафе, дробились фантиками конфет и обложками меню, навязчиво толпились портретами и разнокалиберными сувенирными фигурками в безделушечных лавчонках… Трупное окостенение плохо вяжется с суетливым всеуспеянием (и непоседливым возлежанием на нескольких погостах), но не автор порхающе веселых севильско-цирюльничьих напевов и ввергающих в содрогание панихидных аккордов выступал самопопуляризатором, а вездесущие руководствующиеся сугубо прагматическими, арифметическими, политическими, а никак не трепетными эстетическими мотивами созидатели (или грубые исказители?) гордости за отечество, взрастившее выдающегося сына, – чем больше прямых и косвенных дифирамбов воскурено, тем надежнее закрепится панегирический образ-стереотип в сознании сограждан – в данном случае остеррейховских! Увы, неустанно внедряемые восхваляльщиками панегирики способны не только олегендировать, но и раздражить…
Петр думал: «Нужны не пьедесталы – каменные и конфетные, не выспренние монументы – над подразумеваемыми костями (тех, кому в реальности приходилось не конфетно и не памятниково: нищета, насмешки, пренебрежение – Пушкина, как и Моцарта, не обласкивали и похоронили без пиетета) – нужна прижизненная щадящесть и нетравля на протяжении плодотворных лет, а запоздалые эпитафии, натыканные всюду гротескные чучела и множащиеся по-кроличьи литографски-кучерявые приукрашивания, напротив, отторгают… Неужели, чтоб получить признание, надо сгинуть в чумном бараке, сгнить от бубонной чумы, как Перси Биши Шелли или Глеб Иванович Успенский, быть сброшенным в могилу вилами или с развороченным пулей животом?».
Завтракая в кафе «Централь» (на десерт были предложены марципан «Моцарт» и штрудель «Амадеус»), Петр прочитал в перепечатанной из русской газеты статье – о застреленном в Киеве Столыпине и удручился: «Зачем я уехал? Кто защитит сестер, маму, отца?». На той же странице бросилось в глаза объявление: «Истолковываю сны, гадаю по циферблатам часов и линиям на правой ладони. Отыскиваю пропавшие предметы. Мастер психоанализа Зигмунд Фрейд». «Что за чушь? Как можно гадать по циферблатам? И почему именно правая ладонь?» – вскользь отметил Петр.
Впрочем, зазывное набранное крупным шрифтом ухищрение быстро забылось, Петр увлекся дуэлью официанта и осы, которую тот норовил прибить свернутой в трубочку салфеткой. Полосатое насекомое жужжало, уворачивалось, колотилось в оконное стекло – непостижимую преграду, мешавшую прорваться к зеленеющим в палисаднике (а не в глиняных, внутри зала расставленных горшках) деревцам. Зияла лазейка – открытая форточка, пленнице, чтобы достичь отдушины, надо было проползти по перекрестью рамы, но оса воспринимала его помехой, а не прожилкой к спасению и не улавливала притока воздуха. Иллюзия доступа к приволью заставляла ее все отчаяннее стучаться лбом в прозрачную неодолимость.
Петр распахнул окно, выпустил полосатку, заплатил по счету (из похудевшего конверта: деньги катастрофически таяли, приходилось раскошеливаться – на проезд, гостиницу, еду) и зашагал по гладко отполированному многими подошвами каменному тротуару. Грабен штрассе (Гробовая улица) подсуропила очередную (в знакомом стиле) заманку – приклеенную к фонарному столбу чертвертушку бумажного листа: «Предсказываю судьбу, ищу пропажи, истолковываю сновидения. Профессор медицины Зигмунд Фрейд». Опосредованно, по касательной, Петр взмечтал: вот бы зазывщик отыскал – ладанку…
Чумная колонна – с золоченной костлявой фигурой Болезни на верхотуре – и вывеска «Музейная экспозиция гробов» застопорили прогулку: витрина полнилась обитыми серебристой парчой продолговатыми ящиками, слюдяно побескивали глазетовые венки и искусственные цветочные гирлянды, мрачно застыли муляжи обелисков, похоронные чепчики рыбьи дышали жаберными оборочками, пиджаки и платья состязались декольтированностью вырезов (не на груди, а на спине). Прыщаво-холмистая россыпь черных угреватых подушечек, шляп, цилиндров напомнила об антиевропейских речениях крестного отца, Кирилла: Старый Свет охвачен гибельной манией – заменяет лошадей автомобилями, театральных актеров – кинолентой, аромат душистых трав – одеколоном, лесные чащи – изображениями рощ и дубрав на открытках. Катехизис агонии панихидит империю Габсбургов – ее могильщик, «механизатор Смерти» (назвал его Григорий Распутин), антихрист-преемник инициатора Первой войны Франца-Иосифа (отточившего практику умерщвления на своих сыне, жене, племяннике, невестке) явится из приграничного с Германией городка Браунау и развяжет Вторую всемирную потасовку, усовершенствует человекоистребление до конвейерной безостановочности.
Парк Пратер кишел статистами, замерше изображавшими бронзовые и мраморные изваяния – оскаленной Чумы и цепенящей Старухи с остро отточенной косой. Бродили и отдельные напудренные до трупной белизны жертвы пожинающей несметные урожаи Всегибельности: казненная на французском троне австрийская принцесса Мария-Антуанетта, потянувшая за собой под гильотинный нож супруга – Людовика ХVI, и равная ей авантюристка – Мария-Луиза, дочь Франциска Австрийского, ставшая супругой Наполеона и подвигшая его завоевать Россию. В ведерки, поставленные перед недвижными и инфернально фланирующими фигурами, публика бросала монетки. Дань незримому Харону.
Не соблазнившись обозреть Вену с высоты птичьего полета –для этого следовало абонировать привешенную к гигантскому колесу металлическую кабину (в России такие аттракционы прямо называют «чертовыми»), Петр купил у голубоглазой румяной цветочницы букет глициний и углубился в тишь начинавшегося прямо посреди шумного столпотворения кладбища. Вскоре он наткнулся на шеренгу статуй: Шуберт, Брамс, отец и сын Штраусы, и, разумеется, франтоватый, смахивающий на вертлявого Фигаро Моцарт.
– В грош нас не ставит! – зашушукались памятники, когда Петр возложил цветы. – На всех – не охапку, а тощий веничек!
С соседней аллеи придвинулся замшелый, источенный дождями Бетховен и устыдил на шепелявом (видимо, зубы тоже крошились) немецком:
– Каждому положен отдельный венок.
Петр изготовился дать деру. Но уперся спиной и пересчитал лопатками шершавые штыри помогшего устоять (ноги подгибались) могильного ограждения. В порывах ветра чудились аккорды «Апассионаты». С деревьев крупными слитками сыпались желтые листья. Общим далеким нимбом вращалось над громыхавшими каменными колоссами громадное чертово колесо. Ну и парк, то есть погст! Больше, чем московский, он заслуживал зваться Нескучным!
Памятники держались не враждебно.
– Отправь письмо Виссариону Петровичу! Он волнуется о тебе. Передай привет от нас, посвятивших себя благородному сочинительству – месс и хоралов, – сказал Штраус-отец.
– Пусть папа не губит себя ради царя, – поддержал предка младший Штраус. – И ты себя не губи.
Брамс предостерег:
– Не спеши в Россию. Здесь лучше.
Петр, судорожно сглотнув, пообещал:
– Я принесу вам еще цветов… Много цветов...
И устремился прочь. Вслед ему неслось:
– Не связывайся с неудачниками! Неудачники приносят несчастья!
На пути возник старик в бархатном камзоле и берете с налипшими прелыми листьями – это явно был выходец снизу, а не пришелец с пратерского карнавала: в дебрях буклей завитого парика извивались черви, громыхали просвечивавшие сквозь истлевшую ткань кости, расшитый крупными жемчужинами берет сполз, обнажив облезлый череп, из карманов дырявых панталон свисали полнехонькие монет мешочки, ботфорты на высоком каблуке застегивались бриллиантовыми пряжками.
– Я – Антонио Сальери! – Желтушно-лимонное лицо измогильца и выпирающие зубы имели золотистый оттенок. – Мною созданы сотни опер, их ставили по всей Европе! Никакого Моцарта, разумеется, не травил. На черта он сдался! – Старик презрительно передернул щелкнувшими плечами. – Мне покровительствовали Иосиф Второй, Мария-Антуанетта, Наполеон… Бурбоны наградили меня Орденом Почетного легиона! Я был назначен придворным капельдинером, избран в Шведскую Академию наук и почетным членом Миланской консерватории… Я владел шестью языками. Я помогал бедняге Моцарту, дирижировал, когда исполняли его подражательные опусы… Я не завистлив, а Амодей-Агасфер еще как завидовал моим успехам! Я реформировал оперу, а он каждую пятницу выдавал на гора, как говорят шахтеры, родные братья всех погребенных, новые творения, а в промежутках между пятницами – то дуэт для скрипки и альта, то детскую песенку! – Мертвец погрозил обглоданным пальцем небесам. – Увы, за прижизненный успех наверху вычитают. Такова такса: недоданное засчитывается в плюс. Те, кого обманывают жены, удостаиваются божественной любви. Пушкин, Байрон, Николай Гумилев вхожи в Царство Божье на особых условиях, они в фаворе! Я покинул подкладбищенские богатые золотом катакомбы, чтобы спасти крайне важного для моей будущности человека… – Бескровник глянул на Петра изучающе. – Это явно не вы. Мой друг Мишель Нострадамус дал приметы моего почитателя…
Петр предположил:
– Я видел музыканта. С вашими партитурами. Он задержан полицией.
Старик воздел руки (вернее, тонюсенькие лучевые косточки):
– Я проделал неблизкий путь. Из Венеции, где прошло мое детство, проплыл на «Летучем Голландце» по Дунаю. Вам доводилось слышать об этом корабле? У нас, мертвых, огромный флот. «Титаник», каравеллы Колумба и Васко да Гамы, подлодка «Курск». Но «Голландец» наикомфортабельнейший. В ознаменование моего приплытия подземные своды полнятся ораториями!
Петр ощутил: почва и впрямь вибрирует, словно насыпана поверх оркестровой ямы.
– Я полагал, гробы не для песнопений, – признался Петр.
– Классическая ошибка. Заблуждение! – затрясся от кашляющего хохота старик. – Гробы – идеальные музыкальные шкатулки! Могилы-гримерки, братские могилы-концертные залы, В небе – волокита и сутяжничество. А в лабиринте Минотавра – вулканические громы аплодисментов! Меня под землей обожают, а в небе – это ж надо, какой абсурд – судят! Если б не я, Моцарт не сочинил бы «Реквием». Я его торопил: «Каждый должен создать свой похоронный марш!». Он упирался: «Реквием – сродни завещанию, пока оно не написано – живешь». Я снарядил посыльного… С деньгами и в черном кимоно… Амадею всегда не хватало на хлеб, и он согласился. Человечество обрело его прощальный привет. Это – моя заслуга!
Оживившись (насколько могут оживляться покойники), Сальери вскарабкался на пустующий цилиндр пьедестала и, вращая его ногами, как тумбу на цирковой арене, покатил к могучей композиторской кучке. Шуберт, Штраусы, Брамс и Бетховен, мурлыкая увертюру «Свадьбы Фигаро» и взявшись за руки, отбросили старика:
– Создать сюиту и прелюдию может каждый. А памятник – другая опера! Мы – соль земли и до-ре-ми-фа воды и неба! Заполучи памятник – тогла и встанешь рядом с нами!
– Памятники не для того, чтобы красоваться, – скрежеща суставами и кряхтя, хныкал Сальери. – Они – как перископы, исполняют наблюдательные функции.Сообщабт о происходящем на земле тем, кто внизу. Вам цветы застят глаза! И хороните себя где ни попадя! Вашими именами названы улицы, площади, музыкальные школы… В мою честь не названо ничего! Разве это несправедливо? Ты, Бетховен, и ты, Шуберт, были моими учениками! Ты, Бетховен, посвятил мне три скрипичные сонаты! У меня подагра. В преклонном возрасте сложно перемещаться...
Петр подставил подагрику плечо, чтоб тот удержался на постаменте. Но зазнавшиеся стражи собственной непревзойденности монолитно оттеснили самозванца. Гравий ходил ходуном, меж могилами пролегли трещины.
– Передай Горовицу: он не должен соглашаться работать в колонии для малолетних! – закричал Сальери. – Пусть идет в правительство!
И спрыгнул в одну из щелей.
Перескакивая через разраставшиеся канавы, Петр устремился прочь с погоста. Он не сумел бы выбраться к медленно крутившемуся чертову колесу, если бы в воздухе не повисла и не повела за собой жужжавшая оса.
Мелькнул (или почудилось?) меж не могших разъехаться на выходе из парка ландо и фиакров шибздик в чересчур длинном пальто. Петру было не до него.
В кассе Оперного театра он приобрел билет на вечернее представление вагнеровской «Битвы богов». Прикленный к стене над кассовым окошечком листок малого формата не отличался от газетного объявления: «Гадаю по тиканью часов и линиям правой ладони. Объясняю сны. Возвращаю любовников и пропавшие вещи. Доктор естествознания Фрейд». Нелишне обратиться к такому касательно оберега. Заодно узнать о приснившейся и наяву возникшей незнакомке в леопардовой шубе.
Путеводители не протворечили друг другу: до Берггассе, 19, где располагался кабинет гадальщика, – рукой подать.
Просторная приемная не ломилась от посетителей: три клиента и очкастая, с хищным носом, секретарша скучали в пустоватом холле. Петр внест аванс, секретарша зарегистрировала получение суммы. Услышав имя, отчество и фамилию оплачивателя, один из ожидавших представился:
– Я тоже из России. Меня зовут Пинхас Фальковский.
Австрияк с ниспадавшей на лоб челочкой – он назвался художником Адольфом – встал между ним и Петром и предожил:
– Могу порепетировать ваш немецкий. – Смущенно он добавил: – Надеюсь, вы не сноб и не откажетесь из-за того, что я вырос в Линце. А родом из Браунау. Аттестат об окончании учебного заведения неважнецкий… Но мы можем поделить с вами Польшу! – После чего вскинул ладонь: – Хайль! Германия превыше!
Сильный акцент побуждал крепко задуматься о возможности репетиторства. Ответить Петр не успел: третий примостившийся на краешке стула пациент, в лаптях с онучами и холщовой рубахе навыпуск, протянул кустарно переплетенную алой ленточкой брошюру:
– Вы, я вижу, чистых кровей… Наша лазутчица раздобыла секреты масонской ложи у одного из ее членов... Ради разоблачения их происков я и прибыл в ненавистную мне неметчину. Я – репортер московских и петербургских газет Нилус… Не желаете приобрести?
Петр брошюру не купил, поскольку деятельностью масонов не интересовался. А Пинхас Фальковский полюбопытствовал:
– Есть ли адрес у этой ложи? Я искал конграсс сионистов, потом – социалистов и не нашел. Может, в ложе знают об этих съезда?
Нилус глянул прижигающе:
– Конгресс социалистов и сионистов – одно и то же сборище. Кому-кому, а вам это известно.
При упоминании конгресса социалистов Петр разинул рот, чтобы вызнать его местонахождение, но ни о чем спросить не успел: Адольф картинно (как и подобает художнику) протянул лапотнику испачканную масляными красками костистую руку:
– У меня тоже счет к масонам. Они провалили меня в архитектурное училище! – И предложил репортеру заключить коммюнике: – Будем бороться с их засильем в живописи, театре, литературе! Мне ваши лапти очень нравятся, – признался Адольф. – Они мне ближе, чем ботиночки этого масона.
И в упор посмотрел на Пинхаса, который, оскорбившись, хотел немедленно уйти. Петр удержал его:
– Мой отец говорит: уклоняйся от того, чего не понимаешь. Но не убегай, не постигнув.
– Это мой отец так говорит, – заспорил Пинхас. И угостил Петра ломким хлебным ломтиком. Похожим Петр хрустел в поезде вместе с музыкальным дуэтом.
– Все отцы так говорят, – примирительно сказал Петр.
Нилус торговался с Адольфом:
– За умеренную плату сплету лапотки не хуже моих. Онучи – в подарок. Я на мели. Надысь жил в Биарицце с очередной бабенцией. Пописывал репортажи. Заодно собирал информацию для нашего разведывательного ведомста. Масоны-антирусисты меня разоблачили. Масоны-издатели меня разорили. А у меня еще и законная жена-фрейлина. Я – джентльмен, ее не бросаю. Обнищание поспособствовало духовному перевороту во мне. И возникновению всеохватной любви. Но на масонов моя любовь не распространяется.
Крючконосая секретарша пригласила Петра (почему-то первым) в распахнувший двери кабинет.
Из-за огромного, заваленного бумагами стола поднялся навстречу господин в костюме-тройке, похожий на банкира: из жилетного кармана свисала толстая золотая цепь, которую хиромант-истолкователь снов, возможно, желая привлечь внимание к ее массивности, беспрестанно теребил, во рту пароходной трубой дымила сигара.
– Какой язык общения предпочитаете? – дымильщик указал на кресло, стоявшее близ больших напольных часов, очертаниями повторявших башню Биг Бена. – Английский, французский, немецкий, греческий, идиш?
Петр выбрал наилегчайшее:
– Русский.
– Моя бабушка – одесситка! – обрадовался Фрейд. – Она говорила: «Сидеть лучше, чем стоять, лежать лучше, чем сидеть, надо экономить не только деньги, но и жизненную силу!». Присаживайтесь! В ногах правды нет! Но нет ее и выше! Вы богаты? Влиятельные знакомые имеются?
Бесцеремонность распрашивальщика ошарашила. «Буду осторожничать!» – постановил Петр и отодвинул кресло подальше от устроителя сеанса. Тот наседал:
– Религозны? Атеистичны? В каком банке открыли счет?
– Правильнее сказать: обижен на Бога, – разоткровенничался Петр, поскольку была задета болезненная струна. Он прервал себя: «Ясновидец обязан прозревать (как заявлено в зазывных обещаниях), а этот нащупывает мою ахиллесову слабину!».
Фрейд развернул рулончик фиолетовой ткани, их множество стояло столбцами вокруг не включенной лампы под зеленым абажуром, и сверился с начертанной на материи диаграммой.
– Число «три» есть главная причина вашего разочарования. Болезнь растроения перекинулась из античной мифологии, от трех ее граций, выползла из триединства буддизма – Брахма созидает, Вишну хранит, Шива разрушает, повлияли и три сестры Наполеона: Каролина, Паулина, Элиза и его треуголка... – Предъявленное наглядное пособие отняло у Петра дар речи: оно представляло собой треугольно запечатленный пунктирно обозначенный (так астрономы на картах изображают контуры созвездий) мужской отросток!
Петр не знал, куда деть глаза. Избегая глядеть на постыдный рисунок, он ощущал, что наливается пунцовой багровостью. Негодный отгадывльщик (но никак не врачеватель, хоть и звался докторм медицины!) усугубил богохульство еще одним сомнительным, нет, недопустимо-омерзительным сопоставлением:
– Бог един в трех лицах, и хороший обед состоит из трех блюд: суп, второе и десерт…
До прихода в стерильный кабинет Петр предполагал: зазывала может оказаться шарлатаном. Но обнаружилось худшее: респектабельный циник с сигарой – срамно кощунствует! Сравниение треугольной схемы с Божественным Триединством требовало отповеди.
– Считаю необходимым вступиться за Господа. Не смейте такое говорить!
– Но почему? – круглыми собачьими глазами Фрейд всасывался в поджелудочные потроха: – Три главные события содержит любая русская сказка…
– Не желаю больше об этом! – Преодолевая отвращение, Петр протянул пачкуну ладонь. – В объявлениях означено: гадаете?
Пройдоха оттолкнул ладонь:
– Только по циферблатам. У вас не те часы, которые скажут сокровенное. Вы знакомы с Распутиным?
Наторевший удавьи заглатывать безвольных подопытных кроликов психотерапевт был наделен еще и ухватками патологоанатома! Петр, вопреки воле, брякнул:
– Он лечил меня.
Услышав признание, вынюхиватель аж подскочил в кресле. Сигара выпала изо рта и покатилась по полу. Фрейд ее поднял и отправил в пепельницу.
– Мне послала вас судьба! В России обо мне мало знают. Вы можете сделать меня знаменитым. У меня нюх на баловней успеха. Есть вернейшая примета: неудачники приносят несчастья, а счастливчики – удачу! Через вас слух обо мне достигнет Зимнего дворца. Русские цари окружены никуда не годными знахарями. Но щедро платят им. Приобщите меня к кругу царских докторов! Вам снится царь?
– С чего взяли, что вижу во сне царя? – грубо отпихнулся Петр (так сплавщики баграми гонят плывущие по реке и притертые к берегу бревна).
– Царь, царица, король, королева – символы старших членов семьи. Образы мелких животных – это братья и сестры… Вы ненавидите их.
Петр возмутился:
– Чепуха! На постном масле! Шиворот-навыворот! Ненавидеть близких?
Фрейд взирал серьезно, испытующе.
– Все ненавидят родственников. И хотят их смерти. Или вы феномен? Нет, вы покинули дом, потому что не чувствовали себя полноправным хозяином. Ущербность из-за того, что не добились ничего, в то время как ваш отец – высокопоставленный человек…
Пронзило: уж не предупрежден ли псевдо-медик о доверительных отношениях Виссариона Петровича с царской семьей? Но кто в Вене мог знать об этом? А о конфликте между отцом и сыном Былеевыми? Нет, не ведал никто!
Расковыриватель навязывал, брал измором, диктовал:
– Убежали из дома, потому что ненавидите отца. И вожделеете мать. Обратите внимание, вы почти ничего не рассказали о ней. А это – верный признак тайной любви.
– Я чту отца. Люблю маму и сестер! – Петр мушино отбивался от обволакивавшей паутины.
Фрейд паучино вгрызался:
– Преступные намерения не вполне осознаны вами. Эдип убил отца и вступил в брак с матерью. Гамлет домогался своей мамаши…
– Мне пора, – решительно поднялся из кресла Петр. (В голове крутилось: «Вот какие новомодности исповедует Европа!» С не меньшим успехом можно собеседовать о приснившейся незнакомке – со случайным прохожим. С первым встречным – и, возможно, разговор получится более продуктивный.)
Фрейд силой усадил его обратно.
– Сон – прорвавшийся нарыв, в сновидении выходят из подсознания вместе с гноем впившиеся занозы: постыдные желания.
Монотонно и размеренно в такт тиканью биг-беновской башенки красного дерева, Фрейд вкручивал винт нездоровых рассуждений прямо в горячий (и продолжавший накаляться) лоб:
– Путешествуете с чемоданом? Чемодан вам снится? Чемодан – символ женского начала! Вместилища, лона.
Как было высвободиться, улепетнуть? Вот бы прилетела оса, бившаяся в прозрачную оконную преграду и указавшая выход с кладбища. И повела за собой! Но окна кабинета были задрапированы тяжелыми лабрекенами.
Петр спросил, теряя терпение:
– Почему не допустить: снится именно чемодан, а никакой не символ? – Он не мог взять в толк: словоблуд дурачит его или понуждает увидеть привычное – по-новому?
– Чемодан – это чемодан? Слишком примитивно! – С маниакальной убежденностью горе-исследователь втемяшивал: – Чемодан во сне не равняется чемодану наяву… Опять-таки немаловажно: дорогой или дешевый у вас багаж…
И тут Петра настигло:
– Чемоданы и часы вас интресуют с точки зрения кредитоспособности клиента? Чтоб определить степень его обеспеченности? Судьбу истолковываете, опираясь на линии правой ладони, потому что есть примета: если чешется правая ладонь – это к деньгам, а левая – к расходам?
Фрейд уперся:
– Наоброт, левая чешется – к деньгам, а правая – к тратам. – Но подтвердил: – Вы правы, я погряз в долгах и отчаянно нуждаюсь. У меня юная жена. Из обеспеченной семьи… – И предъявил извлеченную из жилетного кармана цепочку, которую теребил: она заканчивалась ничем – часов прикреплено не было. – Мой хронометр в ломбарде. Кабинет, секретарша в отутюженной юбке – показное. Чтоб визитеры не усомнились в моей успешливости. Для того, чтобы стать известным и расширить практику, нужна сенсация. Скандал. Я пытаюсь отыскать то, что возмутит общественное мнение. Открываю испорченность в детях. Обнаруживаю их страсть к собственным матерям и отцам…
Снизошло облегчение. И сочувствие: «Этот спятивший на почве денег доморощенный самоучка – не шарлатан, а помешан на желании разбогатеть. Зарабатывает ужасными измышлениями. Надо его спасать!». Участливо, увещевательно, как обращаются к тяжело занемогшим, Петр заговорил о русских целителях и поверьях:
– В России другие врачи, чем представляется вам. Надежные, ответственные, знатоки своего дела. У нас, если видят во сне девочек – это к диву, а если мальчиков – к маяте. Приснилось, что вырвали зуб? Согласно общепринятым толкованиям, это – к смерти близкого человека. Если из десны идет кровь. Или не очень близкого, если крови нет. Во главе наших толкований – душевная тонкость, проникновенность… Никакого скверного подтекста!
Фрейд цедил:
– Вырванный зуб – символ кастрации. Предметы, увиденные во сне – проекции женских и мужских желаний…
– По-вашему, возвышенных мыслей и символов вообще нет?
Фрейд фыркнул.
– Откуда им взяться? Все помышляют об одном! – И вернулся к снедавшей его вожделенности: – Вашей царице снятся вырванные зубы?
– Не знаю и не хочу знать!
– Табу? – торжествующе проанатомировал Фрейл. – Не хотите рассказывать? Нельзя? – Лукавство и неискренность сквозили в каждом его жесте. Он докапывался, вспарывал без скальпеля, выволакивал внутреннее наружу. – Но вы вхожи в вышие слои? Я могу рассчитывать на вашу протекцию? Бывает, богачи притворяются банкротами Поможете пробиться в придворные доктора?
– Надо совершенствоваться. Надо становиться глубоким, врачевать душу, а не генитальные закоулки. Надо перестать быть приспособленцем, – честно ответил Петр. – Читали Достоевского? Проблема отцеубийства исследуется в его романе «Братья Карамазовы» острее, чем упомянутый вами случай Эдипа… Гоголь, Салтыковы-Щедрин, другие классики русской литературы откроют вам подлинные бездны подсознания! Немыслимо судить о деликатнейших сферах человеческого интеллекта без ознакомления с творчеством великих! Кстати, Дарвин долго колебался, не мог отважиться и обнародовать открытую им теорию эволюции, поскольку был глубоко верующим человеком, – продолжил Петр. И не поскупился процитировать кое-что из услышанного в стенах Московского университета на лекциях профессоров Челпанова и Фортунатова. – Свяжите ваши предположения о снах с мифами об Эдипе, раз уж о нем обмолвились, о Минотавре, о Гамлете… Сопоставьте греческие легенды с жалобами ваших пациентов.
Фрейд стушевался:
– Я читаю преимущественно инструкции по использованию чемоданов на колесиках. И сонники Миллера. О Льве Толстом имею поверхностное представление. Уж очень толстые у него тома… Под стать его фамилии.
– В религии нынче многое перепуталось. – пытался наставить искаженца на путь истинный Петр. – Считается: Бог – источник света, а сатана предпочитает мрак. Но Бог из скромности часто отступает в тень, кроме того, сатана в полной мере завладел дневным временем, часами бодрствования человека, вот и получается: сновидение – отдохновение освобожденной от гнета дневных забот души. Как птичка из клетки, как оса или шмель, душа выпарихивает на волю. Сон – миг ее непринадлежания телу… Праведные подсказки получаем мы во сне.
Фрейд едва успевал записывать:
– Да, мифы! Нужно опереться. Да, Лев Толстой. Крайне любоптытно то, что вы говорите! Хватит на солидную монографию!
И виновато хлюпал носом. И лепетал, подтверждая худшие предположения:
– Почему я сам не догадался? Вот и плавал в воздухе. Без опоры. Как сигарный дым!
Фрейд испросил позволение проанализировать в одной из своих будущих научных работ «случай Петра».
– Вы – уникум! Не думаете об убийстве… Все жаждут убивать! Чтоб возвыситься. Чтоб получить наследство. – Взгляд его перестал быть виновато-заискивающим, сделался острым, осмысленным, глаза заблестели: – Мы непременно должны еще поговорить. Но сейчас надо развести на деньги тех, кто в приемной. Какой-никакой, а заработок. Приходите завтра. И не думайте обо мне плохо. Это не я… Намалевал… Отросток. – Скомкав, Фрейд выбросил тройственное изображение пениса в мусорную корзину. – Это намарал находящийся сейчас в приемной считающий себя художником Адольф Шикельгрубер. Нет сомнения, он страдает тяжелой формой паранойи… Или шизофрении? Я путаю термины. Ах, как мало мы знаем! Вы открыли мне глаза… Ну их к черту, эти чемоданы!
Уходя, Петр столкнулся в приемной с Нилусом, который впихнул-таки ему в руки переплетенные алой лентой листки:
– Дайте денег! Хоть сколько-нибудь!
Из совсем отощавшего конверта Петр извлек купюру. Нилус бухнулся на колени и пополз за ощедрившим его благодетелем, теряя лапти.
– Есть примета на этот счет? – закричал Фрейд. – Потеря лаптя – к деньгам? – А потом поскучнел: – Шикельгрубер, заходи! Твоя очередь!
Он был неисправим!
Попрощавшись с Пинхасом Фальковским, Петр вырвался на улицу. Солнце, катясь к закату, таяло шариком апельсинового мороженого. Гудели фиакры и автомобили. Примостившись за столиком в кафе, Петр принялся сочинять письмо отцу. Повинился за сумасбродный отъезд, вкратце поведал о музыкантах с арфой и шибздике-революционере, о Фрейде. Излагая казусы, сыпавшиеся, будто из рога изобилия. Петр нашел оправдание своему путешествию: «Мы собирались всей семьей в Грецию, скоро я достигну благословенной земли, исхоженной Богоматерью, увижу обломки статуи Колосса Родосского…». Туманно Петр заверял, что отбыл из дома не подгоняемый ненавистью к взрастившим его близким.
Заканчивая эпистолярий, обратил внимание на аналогично водившего карандашом по бумаге аккуратно одетого молодого клерка в котелке. Оба прервали писанину и кивнули друг другу. А потом познакомились. Конторский служащий назвался Францем Кафкой и сообщил, что корпит над весточкой своему строгому папаше. Признался, что не в ладах с грамотой, и просил Петра прочитать его послание на предмет исправления хотя бы орфографических ошибок. Петр предупредил, что немецкий язык для него не родной, но помог довести бессвязный текст до приемлемого состояния.
Увлекшись беседой о правилах пунктуации и сожалея о неполноте университетского курса филологии («Стану полиглотом!» – наметил план Петр), он вложил в конверт ворох чужих листков. И Кафка тоже вложил не свои каракули – перепутал и случайно присовокупил – к русскому тексту брошюру Нилуса. Озорной Судьбе, охочей до водевильных подтасовок, угодно было внести путаницу в отнюдь не комедийною встречу. В результате Виссарион Былеев, получив от сына пространную, полную упреков и обвинений цедулю (к тому же на немецком!) не на шутку разволновался: у Петра опять нелады с головой! Не лучше обстояло и с пакетом, доставленным отцу Кафки: осилив перевести «Протоколы Сионских мудрецов» на идиш и возложив их авторство на сына, старик отрекся от Франца, не приехал на его свадьбу и лишил отпрыска наследства.
Пообщавшись с будущим известным прозаиком (приобретшм славу, как позже выяснилось, именно благодаря случайной встрече с Петром), опаздывавший к началу оперного спектакля путешественник поспешил в театр. В пивной, мимо которой пробегал, в дальнем ее отсеке, ему опять примерешился – но это не был обман зрения, – человечек в длинном, закрученном вокруг ног пальто. «Бесенок», как мысленно окрестил его Петр, поспешно отвернулся и, подобрав полы одеяния, ввинтился в скопление людей. Не было времени преследовать беспардонца.
Наслаждаясь «Битвой богов» (восхищала не только музыка, но само развернувшееся на сцене сражение кентавров с лапифами), Петр, когда напряжение действа ослабевало, обозревал публику в надежде увидеть зеленоглазую обладательницу леопардовой шубы. Но в зрительских рядах и ложах (как и на сцене) – были сплошь циклопы с лорнетами и перламутровыми биноклями, горгоны в пелеринах и золоте, быкоголовые и лошадеподобные страшилища. (Минотавр родствен кентаврам – не об этом ли толковал в предотъездное утро отец?). Петр думал: в жизни (а не только на подмостках) чудовища попирают нечудовищ, но загадочным образом противостоящие уродам единичные исключения из уродских правил выходят победителями в неравной борьбе. «Дополню реферат главой о бессилии дикости», – наметил Петр.
В антракте он встретил в фойе художника Адольфа.
– Вы дезавуировали перед Фрейдом мой рисунок! – набросился на Петра несостоявшийся «репетитор». – Я с вами посчитаюсь! Всю Россию заставлю говорить по-немецки. Да, сижу на галерке, но будете считаться с моим величием и величием арийской расы! Ахтунг! Хайль!
Его взбудораженность Петр приписал психопатическому воздействию грандиозной, мощнейшей музыки Вагнера.
Гуляя после оперного пиршества по набережной Дуная, Петр натолкнулся на лысого шибздика, тот был уже без пальто и вел под руку одутловатую женщину.
– Шпионите? – Бесенок исподлобья стрельнул недобрым взглядом, покинул спутницу (глаза ее показались сверх меры расширенными) и увлек Петра в сторонку. Без долгих предисловий выложил: – Нужны деньги.
«Всем нужны» – хотел наглостью на наглость ответить Петр. Но не поддел попрошайку, не опустился до склочничества, а холодно осведомился:
– Как насчет медальона? Вы назначили встречу и не пришли…
Бесенок вцепился в купленную Петром польскую хламиду. Интонации, варьируясь от жалостливых до повелительных, намекали на сверхдраматичные обстоятельства:
– Я и мои коллеги вынуждены постоянно скрываться. К тому же у меня жена. Бесхозяйственная дура. Вы не женаты? Разумный мужчин не должен жениться. Революционер – тем более. Надо всего себя отдавать рабочему классу. – Шплинт боязливо покосился на терпеливо ждущую в сторонке пучеглазую воблу. – Закатывает скандалы. Истерзала: почему подписываю статьи «Ленин», а не «Надеждин»? Ее зовут Надя. А любовницу – Лена. А еще одну – Инесса. К милашкам свободных нравов тянет – именно потому, что разнузданны. Чем и вдохновляют. Но иногда думаешь: погрузить бы их всех на пароход, вывезти в море и утопить! Вас такие желания не посещают? Когда женитесь, посетят. – Гипнотическим приемчикам шплинта было далеко до фрейдовских, но его прилипчивости мог позавидовать бывалый банный лист. – Я верну ваш оберег. Я блюду приличия. Не подписываю статьи: «Коллонтаев»...
Петр спросил:
– Когда? Когда вернете?
– Завтра. Здесь. На этом месте. Не сойти мне с него!
– Не верю!
– Не будьте жестокосерды! – И пронзил надрывно и душевыворачивающе: – Мечтаю преобразить отсталую нашу родину! Дотянуть ее до австрийского образца… Чтоб по улицам расхаживали образованные граждане и стояли аккуратные, чистые домики! Чтоб в тартар провалились деревянные грязные московские тротуары! И климат устрою другой, континентальный. Без морозной суровости и обжигающих ветров. Потому что климат – следствие социальных условий. В России – промозглость. Дикость. И чужой, заемный ум. Ничего своего. Все – наносное. Даже песню о гордом «Варяге» сочинил австрияк. Уроженец Тироля. Рудольф Грейнц, мой приятель. Могу и адрес дать.
Назвал улицу и номер дома. Петр пропустил сведения мимо ушей.
– Верните ладанку, – неуступчиво, неуговариваемо, почти сварливо повторил он.
– Конечно! Зачем она мне? А вы не будьте филистером! Женщины и революция требуют расходов. – Шибздик со всего маха ударил себя в тщедушную цыплячью грудь. – Можно приспособиться к негодным условиям, подстроиться под них, паразитировать. И не тратить здоровье на сражение за лучшую жизнь. А можно… Можно пытаться ее переиначить. Чем и занимаюсь. Не жалея себя!
Ласточками, стригущими предгрозовые выси, носились и задевали Петра крыльями (схожими с теми, которые готовы были прорезаться у него за спиной) фантазии шпинделя. Петр корил себя: «Люди заняты благороднейшим делом – переустройством мира, а я озабочен своими мелочными капризами!».
Он вытащил из кармана потрепанный музыкальный конверт. Шплинт схватил протянутое – как брошенный безнадежно утопающему спасительный спасательный круг. Но, персчитав, нахмурился:
– И это все?
Райские песнопения оборвались. Виражные пернатые, охочие не до расплывчатых, видимо, малопитательных правдоподобий, а до отборных съестных ассигнаций, умолкли.
– Хоть бы спасибо сказали, – неловко усовестил Петр революционера.
– За вашу ничтожную подачку? – отшил его тот. – Завтра верну ваш амулет. А вы добудьте деньжат. В шесть вечера. Возле ратуши.
Конечно, он не явился.
Петр случайно встретил его спустя неделю. Шплинт был все с той же пучеглазой напарницей. Они шмыгнули в подвортню. Накрапывал дождь, парочка отгородилась от Петра зиявшим прорехами зонтом. Петр встал им поперек дороги и изрек сакраментальное:
– Доколе?
– Разбужу Россию от вековой спячки! – обдал его патетической порцией освежающего озона велеречивый шибздик. – Проложу проспекты, обеспечу пролетариат бесплатной едой… Светлое завтра уже настает...
– Почему не пришли? – спросил Петр.
– Это вы не пришли! – атаковал его шплинт. – Я ждал, приносил медальон.
– Где?
– У Гейнца, автора песни о «Варяге»! Я вам и адрес дал.
У Петра отнялся язык.
За краснобая вступилась пучеглазая:
– У Володи казнен брат. Такое не пережить. Мы приехали, чтоб забыться. Нам морально тяжело находиться в России. В этой тюрьме народов! А вы растравливаете рану!
Петр почувствовал себя распоследним ничтожеством – рядом с исхлестанными испытаниями, но не сдающимися, не о себе пекущимися изгнанниками. Надменность осыпалась с него, как лишайная короста с выздоравливающего дерева.
С несокрущимой верой вобла произнесла:
– Я могла бы, как Софья Андреевна Толстая, сочинять брошюры о правильном питании… И сочетать обжорство с борьбой за всеобщее счастье. Нет, мы бесханжески и полностью отдались делу освобождения трудящихся и осознанно обрекли себя нести потери…
– Амулет ваш мне не нужен, – оскорбленно подвыл шплинт. – Носить такой пристало женщинам. – И вдруг озлобился: – Посмотрите правде в глаза! Человек всемогущ: хочет – возвращает побрякушку, хочет – не возвращает. Что можете со мной поделать, если не верну? Вы, бесхребетный, слабохарактерный суеверец… Что вообще может букашка вроде вас – против сметающей рутину отсталых косностей революции? Ни-че-го! Отменю Бога, позволю отбирать-экспроприировать пальто, кулоны, шляпы, шарфы! Кому нужен рай послежизненный, неконкретный, мифический? Пообещаю рай близкий, достижимый – сейчас, а не потом: работайте ради этого, не жалея себя… Покажу дуралеям морковку, и ослы-голодранцы потянутся за ней! Толпой устремятся под мои знамена. Подзаборной швали только и надо: набить брюхо и покуролесить. Но ей станет не до прежних замашек. Кину обглоданную кость, то бишь кличь: безвоздмездный труд даст вам манну, то есть морковь и сено. А сам устрою голод. Мор. Мысль у каждого будет: выжить! Протолкнуться к куску хлеба.
Петр одеревенел. В голове перекатывалось: «Снести устоявшиеся дома, заменить дороги и пароходы, провизию и напитки, оперы в театрах? Это работа равна той, что совершил Господь за семь дней творения. Кто осилит такую? Отменить Бога? Разве возможно? Как будет жить мой папа?».
– Разве просто: переустроить мир? – только и мог вымолвить он.
Шпиндель – уж не компенсируя ли свою лысую невзрачность? – надулся болотным пузырем.
– Провозглашу церковное безбожие, ампутирую религию, каждый будет сам себе бог и дьявол, никому ни перед кем не надо будет отчитываться. Переверну привычное вверх тормашками, буду твердить, что надо учиться, учиться и еще раз учиться, а при этом освобожу от мозгов! Упраздню географию и алгебру. И главную продажную девку буржуазии – культуру! Тех, кто ныне почитаем, предам забвению. Всему нынешнему времени, времени, в которое уложится ваша жизнь, по моему приказанию, отведут в школьных учебниках пять строк. Впрочем, учебников, как я сказал, не будет. А энциклопедии посвятят мне!
Петр тонул в потоке обрызганных слюной слов. Но именно одервенелость, в которую впал, держала на плаву. Да еще извиняющая мысль: переживший казнь брата страдалец имеет право щетиниться. Шплинт метал молнии взглядов из-под ощипанных бровей:
– Христос родился в хлеву? Все будут жить в хлеву! И жрать помои! Хлев – вместо домов с колоннами. Хлев – вместо театров. Хлев – вместо Государственной Думы! Что до изъявления благодарности, которой вы от меня требуете, скажу: это вы должны быть мне благодарны – я в вас вливаю закваску высоких принципов, она не позволит опуститься до толкотни у корыт. Мы с вами всегда найдем, где и чем поживиться. Ведь найдем? – И опять быстрый жалящий взгляд. – Мы – из тех, кто всегда будет сыт, потому что сами о себе высокого мнения. Даю вам право сделать новый взнос в кассу нашей партии!
Петр выгреб из кармана мелочь.
По тротуару в шаге от них прогуливался сарделечно-толстый полицейский в остроконечном шлеме. И подозрительно на них поглядывал.
ПИНХАСЦИЛИН И «ФАЛЬКСВАГЕН»
Сверяясь с памяткой, которой снабдил его Шимон, Пинхас дергал медную ручку, толкал массивную створку. Дверь не открывалась. Попасть в здание, где, согласно газетным разъяснениям, шел конгресс, не получалось. Изнутри его участники, что ли, забаррикадировались?
Пинхас обратился к прохожему:
– Намечена сионистская ассамблея…
Прохожий непонимающе пожал плечами.
Что было делать? Телеграфировать в Златополь? Пуститься в обратный путь? Но ретироваться, не исполнив распоряжение Шимона (и преодолев огромное расстояние), Пинхас не смел. Неужели напрасно он столь тщательно готовился к диспуту?
Светило солнце. Поблескивали трамвайные пути, дребезжаще позванивали мчащие по сизым рельсам красно-желтые вагончики. Пинхас, словно сломанный компас, вертел в руках бумажку с адресом.
От фонарного столба отделилась смутно знакомая фигура. Облегающий костюм в полоску, тонкая линия фатовских усиков... Канотье… С каждым мгновением приближающийся мужчина все более походил на продувного картежника Мойшу Хейфеца! В колебаниях меж ревнивой неприязнью к конкуренту-жениху и радостью встречи с посланцем прежней жизни, Пинхас выбрал приветственно шагнуть навстречу.
Сын харьковского ювелира расплылся в улыбке:
– Конгресс? – И согнал с лица лучезарность. – Я – казначей. Оплатили вступительный взнос?
Мойша выхватил, сцапал протянутую купюру, как щука – пескарика. И, убедившись: в портмоне Пинхаса больше денег нет, собрался удалиться.
– А входной билет? А сдача? – Пинхас рассчитывал получить хоть что-нибудь взамен ассигнации. – Кто отомкнет дверь?
Мойша деловито проронил:
– Средства будут пущены на созыв другого съезда в другом городе. В Брюсселе. Или Амстердаме. – И подмигнул игриво: – Неплохая идея? Такому гешефту позавидовал бы сам Господь. Собрать денежки, а конгресс отложить. На неопределенный срок.
Пинхас не сразу уразумел: речь – о поживе и ни о чем больше. А, уразумев, потребовал вернуть подать. Это развеселило сына ювелира:
– Хотите, угощу кофе? Того, что добыл у вас, еле хватит на две чашечки. – Мойша оценивающе, на глазок, взвесил Пинхаса, определяя возможную дополнительную статью дохода. – Могу продать стенограмму конгресса… В красивом переплете. Нет, без обложки – выйдет дешевле. Желающих приобрести – тьма. – Мойша, не сдержавшись, загоготал. – Сколько готовы заплатить?
Тугодум Пинхас опять не понял:
– Сборник есть? А конгресса нет?! – Он вспомнил предостережение отца: «Не покупай то, что не нужно».
Мойша с разбитной искрометной назидательностью преподал:
– А вот с меня не сорвешь ни пфеннинга! Платить и плакать – не по мне. Кстати, это однокоренные слова. Кто платит, тот плачет.
И, не вернув купюру, поспешил удалиться.
Пинхас впервые посожалел об отсутствии походной алхимической лабратории: выплави золотишко – и найми фиакр. Изготовь серебро – и отправься в отель. Или, на худой конец, сядь в трамвай. Теперь неизвестно, что предпринять. Идти на вокзал –менять билет до Златополя на более раннюю дату? А если понадобится доплатить? Да и неближний путь до вокзала предстояло проделать пешком. В карманах и портмоне – пусто. Была бы при себе алхимичская выручалочка, мог бы произвести столько богатств, что сам созвал бы угодный Шимону конгресс! Предъявил бы потом в подтверждение сборник выступлений (включая собственное).
Сокращая дорогу, Пинхас свернул в парк. Идти средь деревьев было приятнее, чем по звенящей трамваями трассе. Но уперся в большое озеро. Удивила похожесть венского и златопольского пейзажей. Водная гладь, осока… Не хватало мельницы!
Валун, вкопанный в песчаный берег, привлек высеченной надписью: «Здесь купался Наполеон».
«Великое заключено в малом, – думал Пинхас, опускаясь на подстриженную траву. – Исполин, перебаламутивший мир, парадоксально умещался в маленьком теле. Гениальный недомерок достиг такой неординарности, так напичкал собой историю, наполнил ее мещок, будто картошкой, наполеоновскими мгновениями, что даже пустяковый факт купания (уж не говоря о выдающихся деяниях!) увековечен.! Вот бы стать таким, как он!».
Из озера вылез и, по-собачьи рассыпав веер брызг, отряхнулся подплывший к берегу усатый бледнокожий худяга в черном трико. Оперевшись о валун, он показал Пинхасу язык. Потрясенный вульгарностью (в центре просвещенной Европы!) Пинхас поднялся, чтобы немедленно уйти: грубость поразила его сильнее, чем изумила бы утонченная вежливость в глухоманском российском захолустье!
Однако услышанное от «язычника» заставило задержаться:
– Показываю язык не вам, а своим работодателям. Я устал трудиться в бюро патентов! Я прибыл в Австрию в поисках работы. Где я только ни побывал! В Германии, Италии, Швейцарии… Вы, судя по вашему изнуренному виду, тоже приезжий.
Пинхас отметил: у купальщика приятная внешность, располагающая улыбка. И вовсе не плебейские манеры. Но в душе завибрировало предощущение недоброго.
– Настоятельные советы поступают мне и родителям из России, – топорща усы, сообщил высовыватель. – Ехать в Америку. Где смогу в лабораторных условиях обосновать важную для человечества теорию. Не то вероятности, не то относительности. Я боюсь океанской качки…
– Из России? Советы? – с замиранием в груди уточнил Пинхас.
– Не доводилось ли вам бывать в городке Златополь? – в свою очередь осведомился пловец.
– Я из Златополя, – холодея, признался Пинхас. У него заныло под ложечкой.
Унять пустившееся в галоп, захлебнувшееся кровью сердце уже не удавалось. Пинхас понял: поездка в Вену (стало быть вот уж не нечаянная!) подстроена Шимоном не в связи с конгрессом. Цель – встреча, знакомство, происходящие прямо сейчас, от проявленной смекалки зависит: вернется он, недонаполеон, в Златополь победителем или окажется разбит и сослан, навсегда упустит счастливый шанс.
– Открыть теорию! – повествовал тем временем пловец. – Но как открыть? Это же не ящик комода. И не закупоренная бутылка!
Пинхас, стараясь сохранить спокойствие, искал оптимальное продолжение беседы:
– Велят ехать в Америку? Не приглашают в Златополь? Коли Шимон советует плыть, надо отправляться. Хоть в Америку, хоть куда… – Ухватив кончик швартовочного каната, Пинхас уверенно тянул неповоротливое судно к нужному причалу. – Основа теории вероятности не представляется сложной и вытекает из самого названия. Мы могли не встретиться сегодня, вероятность совпасть относительно вероятности не совпасть была ничтожной. Но в том и цимес: возможно и вероятно буквально все! Пространство изогнулось, бильярдными шарами мы скатились к неровности озерной впадины. Шары есть молекулы… Отношения между нами есть относительность. Все – относительно! Вероятность абсолютна!
Морж-язычник уставился на Пинхаса ошеломленно. С длинных кучерявых волос текла вода. Пальцем ноги он чертил на песке какие-то каракули. Подтянул сползшее трико.
– То, что вы говорите, крайне интересно! Но есть еще одна немаловажность. Шимон и Сарра уверяют: с моей фамилией в России, как и Германии, и в Австрии будет не до науки.! А в конверт оказалась вложена фотография красавицы…
Секундное огорчение, вызванное добрейшим коварством Шимона, не помешало приливу всеобъемлющего блаженства – приобщенности научному эксперименту, в котором просияет искорка его, Пинхаса, участия! Пинхас не удивился этой своей абстрагированности от единоличной замкнутости – ведь Шимон рекомендовал шириться, не узколобничать, а Готлиб настаивал: «Добиваться всего лишь преуспеяния и благополучия, прибавки к жалованью и любовной неги – не тот максимум, ради которого мы произведены на свет!». Пловцу-моржу, если он не наделен распутинским умением тасовать события, в одиночку не совершить прорыв в невероятность.
– Если посетите Златополь, увидите мельницу… Она из ответвления текучей воды высекает пшеничную и ржаную муку… А крылья ветряных мельниц наводят на мысль о пропеллерах… Коль боитесь морской качки, стоит изобрести вертолет…
Морж плюхнулся в воду и, подныривая, торопливо поплыл саженками. Теперь он стал похож на выдру. Барахтатаясь, оглянулся, показал язык.
– Не вам, не вам, а патентному бюро, откуда увольняюсь. До встречи с вами я подумывал лишь о конструировании холодильника. Вы расширили диапазон моих потенций… Ощущаю в себе гораздо большие, чем переезд в Америку, возможности!
Энергично бултыхая ногами, он скрылся из виду. Пинхас благодарно погладил валун: «Дух полководца, освежавшегося здесь век назад, подсказал мне блестящий стратегический маневр!».
С другого бока к валуну лепилась бумажка: «Излечение недугов и обнаружение выхода из безвыходных ситуаций у чудо-доктора Фрейда!». Пинхас затвердил указанный в объявлении адрес.
На газоне перед беседкой, мимо которой он проходил, ковриком лежала внушительных размеров фанерная шахматная доска. Средь частокола пешек, королей и ферзей слонялся небритый мужчина в измятых брюках и нечищенных ботинках. Пинхас узнал приезжавшего в Златополь гроссмейстера Ласкера. Но контраст прежнего и нынешнего Ласкеров был пугающ.
– Что случилось? Как поживаете? – обратился к нему Пинхас.
– Я деморализован, – ностальгически застонал Ласкер. – Не могу забыть турнир, устроенный Шимоном в абрикосовом саду. С тех пор я забыл, как выигрывать. Мечтаю снова приехать в Россию. Устройте состязание! Я восстановлю спортивную форму… Ревекка будет гордиться мною!
Экс-чемпион мира не мог говорить ни о чем и ни о ком кроме Ревекки:
– Не возвращайтесь туда, где проиграли, – сердобольно посоветовал стонущему гроссмейстеру новоиспеченный соучредитель теории вероятности. – Сразитесь хоть бы и в этом парке, на своей территории с Алехиным, Капабланкой… Дома стены помогают. Привыкнете побеждать, вернете себе шахматную корону, тогда, возродившись, пожалуете в Златополь… Давайте вспомним, как вы выигрывали.
Пинхас выстроил черную и белую гвардии и отмел искушение обставить разучившегося комбинировать мэтра. Подслащивая урок, угощал Ласкера неубывающей мацой (но умалчивал, что ее пекла Ревкка):
– Е-два е-четыре… В Россию еще не раз приедете. Вам предоставят квартиру в Москве, окружат почитанием…
Удалось вдохнуть в забулдыгу утраченный навык. Ласкер поставил Пинхасу мат и воодушевился:
– Отправлю вызов Капабланке! Чувствую неукротимую силу.
– Это благодаря маце! – сказал Пинхас. – Милости прошу в Россию!
При выходе из парка на глаза попалась приклеенная к водосточной трубе бумажка с приглашением посетить истолкователя снов и гадальщика по циферблатам Фрейда. Шевельнулось: пусть не удалось потереотезитровать на трибуне конгресса, зато возникает шанс добыть в клинике на Бергассе фармацевтические панацеи для Готлиба-Лазаря.
Приема ждали трое: буйно кудрявый субъект в опорках (вызвавших у Пинхаса щемящее воспоминание о крестьянских ребятишках и Льве Толстом), нервный австрияк с уморительными усиками и длинноногоий студент из России в невообразимой накидке. За высокой конторкой главенствовала накрахмаленная секретарша в чепчике. Она требовала оплатить предстоящую консультацию. Пинхас стал объяснять:
– Я прибыл на сионистский форум. А он отменен.
Лапотник не то трагически, не то истерически расхохотался:
– Это ж надо! Все пути ведут и приводят за границу! Тут ваши съезды и ритуальные трапезы! И лучшие врачи, к которым идут по национальному признаку! Я специально прибыл, чтобы разоблачить шарлатана Фрейда! – Он счел нужным представиться. – Сергей Нилус, литератор. Сочиняю либретто оперы о погибшем Столыпине «Жизнь за царя».
– Кажется, с таким названием уже написана, – усомнился Пинхас.
Юноша в хламиде назвался Петром Былеевым и пробудил приязненные чувства. Пинхас угостил его мацой (запасы сами собой прирастали в походном кофре).
Усатый заморыш-австрияк пригладил челку, обкусил заусенец на перепачканном краской пальце и заговорил на плохом немецком:
– Родители хотели назвать меня Альберт, чтоб рифмовать с «мольбертом», но одарили намеком на счастливую долю – Адольф. Фрейд не признает во мне живописца, а бездарного еврея Модильяни пригрел…
Петра Былеева пригласили в кабинет, а в приемной возник хлыш (уж не шел ли он по пятам за Пинхасом?) и отрекомендовался:
– Мойша Хейфец. Уполномочен сформировать российскую фракцию мирового правительства. – Мойша широко развел руки, объединяя невидимую общность. – Вы, Адольф, – обратился он к австрияку, – можете сделаться представителем своей державы. Главное – вступительный взнос.
Нилус и Адольф обменялись многопонимающими взглядами.
– Не все выступающие от имени России имеют право представлять ее интересы, – заговорил Нилус. – Даже при беглом ознакомлении с вашей внешностью становится ясно: в вашем мировом правительстве власть будет принадлежать поработители всех прочих наций.
Мойша, не дослушав, увлек Пинхаса в дальний угол.
– Пойдешь ко мне статс-помощником? Гони взнос!
Развязанности хлыщу было не занимать, а проницательности недоставало: плачевное состояние финансов Пинхаса он не прозревал.
Пинхас не собирался осторожничать.
– Не хочу иметь с вами дело! – объявил он.
Мойша не оскорбился:
– Сам Господь сподобил придумать прожект, коаптации в мировое правительство. Принесет миллионы! Никого не оставит равнодушным! – И пошебуршал вытянутыми из кармана смятыми бумагами. – Не хуже меня сознаете: жизнь – лавирование между подлецами, негодяями, мерзавцами, жуликами и попытка опереться на порядочных и надежных, кои норовят ускользнуть, пока вы их курочите…
Жаль было тратить время на пустую болтовню. Пинхас демонстраивно извлек хронометр и взглянул на циферблат.
У Мойши загорелись глаза.
– Отдайте часики! Нет, продайте!
Пинхас колебался: не нужны колбы, штативы, злато и серебро, хронометр тоже в тягость (отец правильно внушал: слежение за кружением часовых стрелок отнимает безмятежность), но, если не разжиться деньгами, как бы не пришлось топать до Златополя пешком! Нечем платить доктору и доплачивать за проезд до росийской границы… Однако, царский подарок необходимо возвратить Шимону в целости и сохранности…
Они стояли возле окна. По улице катили редкие автомобили и частые экипажи. Выклянчивать у Мойши даже утреннюю свою купюру Пинхас не собирался. Размышлял вслух:
– Лимузины не для ходоков вроде меня. Вот бы сконструировать юркую маленькую машинку!
Мойша в крайнем возбуждении взъерошил волосы:
– Создадим корпорацию! И начнем штамповать. В том числе танки! Никому ни гу-гу о наших планах! Так и быть, назову первую модель «Фалькс-ваген» – от вашей фамилии «Фальковский». Но процентов с прибыли не дам. – И опять скатился к идефикс: – Назначаю вас министром транспорта!
Петр Былеев пробыл у доктора дольше часа. Затем к психоаналитику, скрипя лаптями, проследовал Нилус. Один лапоть, зацепившись о порог, соскользнул с ноги. Литератор долго пыхтел, переобуваясь и вдевая обмотанную портянкой ступню в неподатливое стремя, заплетая онучи:
– Еврейские лекари раздевают клиентов до нитки, не начав обследование!
В кабинете Нилус не задержался. К психоаналитику, оттолкнув художника Адольфа, прорвался Мойша. Раздосадованный Адольф пожаловался секретарше:
– Всегда лезут и всегда без очереди!
Через неплотно прикрытую дверь до Пинхаса доносился голос доктора:
– Не я вам, а вы мне отслюните за участие в мировом правительстве! Да еще в должности министра здравоохранения!
Выскочив из кабинета, Мойша убежал, ни с кем не попрощавшись.
Дождавшемуся своего приговора Адольфу Фрейд втолковывал (произнесенные фразы долетали до Пинхаса во всей их четкости):
– Мне не нужно усовершенствовать мой разговорный. Ваш акцент ужасен. Вам противопоказано заниматься живописью!
Адольф вышел побледневший и поклялся:
– Выпущу из него кишки!
Секретарша не пропускала Пинхаса к доктору без предоплаты, но Пинхас угостил ее, а потом и Фрейда чудо-мацой. Хиромант от нечего делать (больше на прием никто не пришел) разальтруистичничался и позволил неимущему клиенту изложить цель визита.
– Мой отец Готлиб Фальковский лечит малокровие яблоками, истыканными гвоздями, – начал свой рассказ Пинхас.
Фрейд, покусывая кончик сигары, отрезал:
– Я не занимаюсь терапией.
Пинхас поделился сведениями об удивительных антисептических свойствах плесени: когда, в пору крайней нужды, приходилось употреблять в пищу заплесневелый хлеб и тронутые гнильцой яблоки – царапины, воспаления и нагноения на теле исчезали быстрее, а простуда заканчивалась мгновенно.
Выплюнув краешек табачного листа, Фрейд надменно сказал:
– Я не царапины лечу. Я посвятил себя бестаблеточному исцелению: никакой ответственности и полная свобода диагностики.
Пинхас не отчаивался и терпеливо объяснял:
– Не могу вернуться пораженцем. Возлюбленная провожала меня, пекла мацу… Ее зовут Ревекка. Льва Толстого потрясла и испеченная ею маца и стория нашей любви.
Фрейд задумался:
– Толстого я намерен основательно проштудировать. А маца и верно превосходна. Я бы должен угостить вас ответно. Но в силу стесненности в средствах не держу в кабинете чай и кофе. – В подтверждение показал массивную золотую цепочку, змеившуюся из жилетного кармана. Она должна была закончиться часами. Но не заканчивалась ничем. Фрейд вытянул губы трубочкой и издал гудок, похожий на сигнал паровоза: – Ту-ту… Вернее, тю-тю… Мои заработки скудны, ими распоряжается молодая супруга.
Однако, смягчил отказ:
– Я готов свести вас с Пастером и Флемингом. Возможно, их заинтересуют ваши гвозди в яблоках и плесень.
Пинхаса тронуло его участие. Он, как никто, понимал врача: если бы ему, Пинхасу, выпало содержать молодую красавицу, он бы в лепешку расшибся, угождая ей… Решение пришло мгновенно. Пинхас вспомнил отцовскую заповедь: не упускай малейшую возможность подсобить – и вложил в руки Фрейда хронометр, пожалованный Шимону государем.
(С тех пор не знал точного времени, а приблизительное местоположение посреди суток определял по солнечной освещенности или густоте ночной тьмы, на обусловленные встречи опаздывал или являлся раньше положенного. Его сын Александр, унеследовавший счастье времяневедения, тоже не имел представления о неделях, месяцах и годах – ведь художник и время понятия несовместные – и на вопрос: «Который час?» отвечал: «Три четверти Пикассо» или «Без десяти Крамской».)
– Мой будущий тесть Шимон – ученый и алхимик, обрадуется, если вы приедете в Златополь с лекциями о толковании снов, – сказал Фрейду неузаконенный жених. (Впрочем, Пинхас говорил уверенно: озвученное, уверял он себя, непременно воплотится, вольется в жизнь, безвестным останется как раз поглощенное молчанием). – К вашему приезду понаделаем в алхимической плавильне кучу украшений, преподнесете их своей молодой жене.
Фрейд законспектировал сопряженные с целительной плесенью данные, пометив в верхнем углу листа: «Пинхасцилин». И испросил позволение опубликовать отчет о плесневых изысканиях под своим именем – поскольку авторитет снотолкователей в научном сообществе всегда неизмеримо выше, чем у скучных (таких, как Пастер и Флеминг), а то и врвсе не известных никому скрупузезных терапевтов, инфекционистов и корпящих над хирургическими столами медицинских чернорабочих. В качестве причитающегося Пинхасу и Готлибу гонорара (на случай появления этой архиперспективной статьи в журнале) преподнес вознаградительный сюрприз: крахмальная секретарша пребывает замужем за высокопоставленным чиновником железнодорожного ведомства, поэтому за билет до Златополя доплачивать не придется.
Теперь уже Пинхас, истаивая от благодарности, вытянул губы трубочкой и прощально прогудел:
– Ту-ту…
В поезде Пинхас питался исключительно мацой. Подъезжая к Златополю, попал под воздействие непонятно откуда льющейся музыки. Считанные часы отделяли его от воссоединения с папой и мамой, свидания с Ревеккой! Но никто не вышел на порог покосившейся хибары встретить его. По щелястому, рассохшемуся полу шмыгали мыши и грызли большой валявшийся конверт. Какая разница: от кого письмо, если не с кем перемолвиться! Пинхас опутился на скамью и обхватил голову.
Он не знал, сколько времени провел, сжимая виски. Очнулся, когда услышал тяжелые шаги. Поднял взгляд и увидел Шимона. Шимон был в черном торжественном сюртуке, с тяжелой тростью и в кипе, делавшей его похожим на Иеримию.
– От банды Головорезовых я твоих родителей уберег. От Васи Панюшкина защитил. А от смерти заслонить не смог, – сознался Шимон. – Сперва умерла Рахиль. Потом, не пережив горя, Готлиб. Он ждал тебя, смотрел на дверь, надеялся: ты войдешь, и он успеет проститься. Я позаботился об их погребении. Прочитал кадиш.
Пинхас проглотил закупоривший горло, колючий, как соцветие репейника, ком и смог вымолвить ни слова.
Шимон повинился:
– Я не должен был отсылать тебя. Но, согласно моему предвидению, ты должен был вернуться значительно раньше. Я не учел: если Горовиц берет в руки скрипку, время ускоряет бег. Жаль, твой отец перестал быть бессмертным.
Добавил неуместно:
– Сэр Исаак Ньютон лишился отца еще до рождения. А в трехлетнем возрасте был покинут матерью. Она сбежала от своего ребенка. Объявилась лишь через десять лет с новым мужем и новыми детьми. Это не помешало сэру Исааку сделаться великим.
Хотелось, чтоб Шимон ушел. И Шимон это почувствовал. Шаркая и тяжело дыша, он удалился.
Когда шаги не столь уж непогрешимого (стало теперь понятно) пророка затихли, Пинхас топнул ногой. И скомандовал:
– Эй, мыши! Теперь и вы уходите!
Мыши и усиками не повели. Одна, самая длиннохвостая, взобралась на запыленный сапог Пинхаса, другие затеяли гонять уголек, случайно не выметенный с прошлой зимы. «Надо дать им укорот. А еще – собрать хворост и протопить печь. И навестить Янкеля. Нет, сперва на могилку!»
Простор и ветер были необходимы Пинхасу как никогда.
Возле покосившегося плетня пританцовывал на морозе Вася Панюшкин в зипуне и малахае.
– Нож при тебе? – безразлично поприветствовал его Пинхас. – Что ж, валяй. Топор из мерзлой земли выкапывать не стану.
Вася облокотился о плетень.
– Я сам сражен наповал. Такое учудила Ревекка…
Обстоятельно отчитался – о ее побеге и (добровольном ли?) возвращении. Поделился: государь не к старому Шимону за мудрстью приезжал, а чтоб склонить красотку к растлению в гареме Льва Толстого. Но Вася позорную сделку предотвратил.
– Нечему удивляться, что выбор пал на Ревекку, если неугомонный Пушкин, следуя через Бессарабию, заночевал в доме ее бабули. Семейная традиция Барских: ублажать приезжих, это наследственное в их роду.
Пинхас за версту чуял затаенную чужую боль, каждое Васино слово сочилась ею, поэтому зафиндилил несильно и неплотно сжатым кулаком в защищенный малахаем лоб (удар получился не оглушающим) и побрел к кладбищенской опушке. Вася, скользя, падая и вскакивая ванькой-встанькой, бежал за Пинхасом, протягивал кулек:
– Яд. Крысиный. Выпей. Полегчает. Или, если собираешься дальше муториться, хотя зачем тебе жить, это для тебя бессмысленно, рассыпь по двору… Зря меня не послушал, не завел в амбаре сов. Мыши, крысы не расплодились бы…
Пинхас сказал, что принимать яд не собирается.
– Как знаешь, как знаешь, – Вася широким жестом сеятеля разбросал отравленные кристаллы. Прибавил забористо: – Если надумаешь, лизни снежку.
Некоторое время он шел рядом, безостановочно гуторя:
– Тебе невеста с замаранной репутацией ни к чему – найдешь другую, под стать твоей чистоте. А я собой пожертвую – иначе небезосновательные напраслины будут преследовать – даже если Ревекка уедет в Петербург. Никогда не напомню ей о неблаговидной молве: попрекать изменщиц – последнее дело. Но сплетни ей на пользу: уже не строит из себя кисейную барышню, не разъезжает в белом платье...
Пинхас попросил Василия отстать, и Вася подчинился.
Кладбищенский пленэр поражал живописной жутью. Черные дубы растопырили паучьи ветви, зеленые кикиморные ели кутались в белые саваны.
Пинхас едва не наступил на серый шарик, приняв его за клочок собачьей шерсти. Но шарик шевельнулся. Пинхас склонился над ним: мышь-полевка дышала часто, прохлада снега не унимала объявшую крохотное тело лихорадку.
Бисерно петлявшая цепочка следов – Пинхас подивился изяществу миниатюрных отпечатков – привела к высокому холму. В снежном покрове у подножия чернело множество арочных отверстий – наверно, в глубине они соединялись. Повысовывались мордочки спрятавшихся при появлении человека обитателей лабиринта. Самые осторожные не покидали укрытие, самые отважные (Пинхас залюбовался их грациозностью) принялись безбоязненно катать по насту твердый желудь. Аккуратные лапки, умные бусинки глаз, хвостики, которые, чтоб не волочились, жители мышиного города укладывали затейливыми петельками на свои же спинки…
Пинхас думал: «Особенно умилительна неиссякаемая, неистребимая бравурность бытия – в мелких созданиях: пчелы основательно строят соты (разграбляемые медведем и человеком), поедаемые лисами и волками зайчики продолжают плодиться, выхухоли, бурундучки, змеи и щеглы, зная, что обрекают потомство на вечную дрожь перед пожирателями, не трепещут понапрасну, а делятся внутри водоплавающих, летающих и пресмыкающихся отрядов на брачующиеся половины и производят – походя, а не обреченно – смену себе, и она продолжает нестройное шествие, не ропща и не проклиная трагический жребий: огромный слон подчиняется крохотной пуле, пышный енот – неумолимости хитрого силка, разбуженный посреди зимней спячки могучий медведь – нацеленной в его брюхо рогатине, сообща все пополняют колыбель мирообновления».
Разговор с Львом Толстым укрепил в Пинхасе привитую отцом и кузнецом Эфроимом причастность всему живому: человек не отличается от пчелы, мыши, крысы и коровы, хотя отбирает мед, обдирает шкуры, присваивает чужую плоть и пропитание – недавних своих соседей по Ноеву ковчегу. Есть главенствующее, общее, что уравнивает крыс, мышей, летучих мышей, сов и человека: кровь перелитая из общей Чаши бытия в чирикающие, хрюкающие, попискивающие, мычащие, ржущие сосуды». Пинхас и прежде умилялся всепохожести: замочной скважины – и контуров широкоплечего человека, взъерошенного воробья – и отсыревшей сосновой шишки, семечек внутри тыквы – и расположения икры и молок внутри рыб, извержений вулканов – и мужского семявыбрасывания, редкой либо густой растительности черепа – и древесной на поверхности планеты.
(«Все однотипно, – говорил Антону дедушка Петр. – Мне отсекли палец, тебе сломали руку. Распутин обзывал Наполеона и Чингисхана утопленниками, за это его пытались утопить. Уж не стану о том, что церкви устремленными к небу очертаниями предвосхитили космические корабли».)
Пинхас на руковице отнес и положил дрожавшую полевку к арочной норке. Мышь не очнулась и не юркнула в отверстие, не поползла по холмику. Возможно, успела проглотить отраву, рассыпанную Васей. Вображние рисовало: она бежала, торопясь предупредить старых и молодых соседок по мышиеому городку об опасности…
Дома Пинхас соорудил для нее подстилку из простынного лоскута, наполнил блюдце водой, а второе – крупой, найденной в промерзлом сарае. «Я тоже болею, – думал Пинхас. – Любовью, несбыточными надеждами. С чего возомнил, что стану Ревекке нужен? Это горячка, бред. Из-за любовной лихорадки лишился разума, потерял отца и маму, себя потерял. Останься возле них – сумел бы спасти». Большой лопатой он сгреб отравленный снег в столярный ящик для стружек, накрыл его рогожей – чтоб птицы и мыши не понесли урон.
Навестил кузнеца Эфроима. Новость, услышанная от него, поразила: пока Пинхас отсутствовал, Янкель женился! И с женой Гитаной уехал в табор.
Возвращаясь в свою кособокую хибару, Пинхас увидел: из открытой калитки пустился наутек сподвижник Васи Панюшкина Никодим Сердечкин. А в горнице обнаружил запертую в клетке беременную крысу и записку: «Такое брюхо нагуляла Ревекка». Крыса пыталась выбраться из заточения, грызла металлические прутья, но лишь кровенила десны. Животное металось, потом обреченно замерло. Пинхас вынес клетку на порог и выпустил крысу, сказав на прощанье:
– Не будем становиться врагами.
Так покойный отец обращался ко всему сущему: «Не сделай мне зла, а я не причиню зла тебе».
Ночью Пинхаса настигло: «Обаятельный разум, благородство, гордость могут быть заключены (отправлены в ссылку? в тюрьму?) – в непритязательное (а то и до оторопи отталкивающе) вместилище. Не об этом ли сказ про царевну-лягушку? И притча Аксакова «Аленький цветочек»? Шекспир наделил Гамлета малосимпатичной внешностью (и подчеркнуто привлек внимание к невысокости, полноватости, даже уродливости принца) – не для того ли, чтоб показать: внешняя устредненность, тусклая оболочка, мишура таят под собой драгоценную непоказную суть?
Из обгрызанного мышами конверта Пинхас вытряс письмо Льва Толстого. Оно содержало несколько строк: «Бегущих с корабля крыс люди ненавидят за то, что, в отличие от крыс, не могут предвидеть крушение и спастись. Создай нетонущий ковчег, он обернется для ненавидимых раем!». Пинхас отчетливо увидел новый Ноев городок (с госпитальным отсеком для заболевших любимцев), в нем крысы, мыши, совы и змеи стали ручными и не боялись людей… На осмотр построенного в сарае уголка благоденствия – для грызунов и сов – пригласил Ревекку и ее сестер. За компанию пожаловал случившийся в Златополе миллионер Збарский. Но совы на куриных насестах смдеть не желали, мыши сквозь щели лезли в подпол. Юдифь и Ханна прыскали. В Ревекке поражали бледность и худоба. Миллионер, брезгливо ступая по скрипучим половицам, отирал лаковые туфли батистовым платком.
Пинхас вернул сов на мельницу. Выздоровевшая мышь сама покинула лоскутную койку. Златопольцы изгалялись:
– Не специально ли отсылали тебя, болвана, к Толстому и на конгресс? Куда еще спровадит Шимон устроителя больничного ложа для мышей?
Пинхас спуска изрыгателям и не давал. Доходило до драк. Потом ставил примочки на синяки. Отвечал на нескончаемые гадости:
– Трудно преодолеть досаду, если не к вам приезжал государь и не с вами держал ночной совет! Если не знакомы с Фрейдом, могу устроить консультацию. Коль сосед преуспевает, надо его принизить, а красавицу очернить! Ведь так?
Понимал: в истоке злобы всегдашнее неравенство умов.
Приехавшему из табора Янкелю Пинхас сказал:
– Ничто не держит меня в Златополе. Отведи к цыганам.
Янкель повторил не меньше ста раз (пока Пинхас уразумел) – о добытом у Распутина и Менделеева рецепте вечной молодости. Подстрекаемый любовью (и жаждой ясности), Пинхас принес Ревекке чудодейственный продлевающий дни экстракт. Шимон снадобье отверг. Он не знал, как утешить уставшего от безнадежности ожидания шлимазла., поэтому говорил максимально честно:
– Невозможен рай для китов – в огромном океане. Для волков и зайцев – в просторном лесу. Ни мышей, ни сов, ни людей в рай насильно не затянешь. Ревекка должна бы восхищаться тобой, но ответной влюбленности нет. Не утвердиться гармонии на планете, где все несообразно и одни поедают других! Прости меня за Вену и Ясную Поляну.
Пинхас овладевал умением несамобичеваться. Мастерством непопрекания. Улыбчивостью через преодоление отчаяния:
– Мне выпало счастье беседовать с великим писателем-гуманистом! Таким же крупным мыслителем, как вы.
И все же тоска поглотила Пинхаса – будто Левиафан Иону. Пинхас прикидывал: «Веревка (надо проверить прочность) через перекладину. Секундное неудобство, а затем – избавление». Но вообразил себя сучащего ногами с вывернутой индюшачьи шеей и высунутым языком и отверг марионеточное дергание на ниточке: наследник воскресшего из петли Готлиба не опозорит память отца!
Утром, одеваясь, чтобы уйти (не в табор, так куда глаза глядят), невыспавшийся Пинхас заметил поблескивающую цепочку на полу. Поднял и обомлел: браслет. Давным-давно, еще в дозлатопольский период купленный отцом (тогда дела Готлиба шли успешно) и подаренный Рахили, впоследствии потерянный.
Крыса, та самая, выпущенная из клетки (в день возвращения из Вены под опустевший родительский кров), но похудевшая, разрешившаяся от бремени (ее легко было опознать по белому пятнышку на спине), пятясь и кланяясь, ретировалась в нору.
А выздоровевшая мышь принесла и положила перед Пинхасом пуговицу, оторвавшуюся от его рубашки в тот вечер, когда он выкопал из-под яблони топоры и призвал Сердечкиных к миру. Пинхас полагал: эта пуговица никогда не отыщется.
ВОЛОСАТЫЙ СУП
Подоспевший финансовый прилив снял застрявшего на денежной отмели Петра и расчистил нахмуренный горизонт.
Виссарион Былеев сопроводил вспомоществование встревоженной ноткой: «Твои упреки обеспокоили – тем хотя бы, что изложены на немецком. Все ли в порядке с твоей нездоровой головой? Ходят слухи, в Вене практикует восходящее медицинское светило Фрейд, проконсультируйся у него, присланной суммы должно хватить». Вполне доброжелательно регент советовал не шпрехать на родителей и заканчивать бесцельное, без руля и ветрил турне: «Соблазнительны Ватикан, Кельнский и воспетый Виктором Гюго Богоматерьский соборы, где узришь терновый венец, язвивший чело Учителя, но любящий тебя крестный отец архимандрит Кирилл напоминает: в Европе издревле популярны Варфаломеевские и Вальпургиевы ночи». Сделал приписку и Распутин: «Ни в коем разе не сымай амулет! На Крите, вдоль и поперек исхоженным апостолом Павлом, прикинь: сгодятся ли катакомбы дворца Миноса для упрятывания в русского Минотавра».
Из Афин Петр наметил махнуть на Крит. В лоскутной Европе все под боком: от Вены до Кельна ближе, чем от Москвы до Петербурга. Но предврительно хотелось разыскать невконякормного шибздика и его базедовую казначейшу. Посетив любезного им поэта Рудольфа Гейнца, Петр удостоверился: рифмоплет – не фикция и не плод фантазий неуемной четы вралей, а действительный автор оды крейсеру «Варяг». Однако, выяснилось: ставшие гимном русских моряков стихотворные строки Гейнц сочинял не с благоговением, не с преклонением перед подвигом матросов, а с насмешкой над героями. Петр ушел от шкодливого поэтишки разгневанным – и на лгуна-бесенка, и на осмеивающую все и вся шатию революционеров, которую тот сколотил.
Набережные Сены навевали новое послание отцу – с забавным перечислением русских, на французский лад исковерканных названий: забегаловок-«бистро», прискакавших в кафе-шантанный обиход вместе с гнавшими Наполеона до Парижа казаками и гусарами; запеченных в тесте-кляре под обозначением «судак орли» белорыбиц, преподнесенных местным гурманам соратником Мазепы Орликом, спрятавшимся заграницей от царского гнева… А сама Сена – не сопряжена ли с московской Остоженкой (ее стогами и сеновалами)? «Выстроят еще и гавань «Орли» для летающих омнибусов, – предрекал Распутин. – Орлами взовьются фиакры!».
С отяжелевшим, приятно тянущим карман кожаным, для особого рода вложений предназначенным бумажником, Петр взбежал по широкой каменной лестнице – к панибратски-площадному братству созидателей богемной парнасско-монмартровской красоты: в длинных шарфах и беретах, в заплатанных штанах и куртках, гремя побрякушками на запястьях и в пронзенных серьгами мочках ушей, рыцари-фехтовальщики наносили кистями-копьями аляповатые и блеклые уколы-мазки на разномастные разноразмерные холсты, серая грунтовка расцветала ярмарочно зазывными вспышками. Так и надо обходиться с музами (и заказчиками) – бесшабашно, амикашенски, нараспашку! Прилюдно и показушно горланя, перекликаясь, не смущаясь опрокинуть в себя стаканчик-другой и не затрудняясь нацедить в ту же емкость тот же напиток гостю, не склоняя при этом к приобретению пейзажей, натюрмортов, портретов, шаржей (словно и не дорожа шедевральными полотнами), однако, ловко абордажничая, умело вовлекая в торг-аукцион – подливая винца и прихлебывая из горлышка!
Пьянящее веселье подхмелял приворотно-клейкий аромат весенних тополей, увешанных гранатового оттенка длинными сережками. Грезилось: карнавальные деревья и окутанная облаками – не египетски низенько-пирамидальная, а устремленная ввысь, легкая, воздушная, перепончато-металлически-ажурная европейская башня – новомодное чудо света, конструкция инженера Гюстава Эйфеля, опирающаяся четырьмя лапами на подвижные технически безупречные фундаменты, а не на спины доисторических черепах! –порождены единым творческим порывом.
Испытывая блаженный экстаз, Петр не отяготился покупкой торопливых эскизов и добротных, под старинную выделку изображений в массивных рамах, и покинул бурлескную клоаку ради возлегшего успокоительным компрессом на макушку Парижа кладбища.
Запустелое скопище заброшенных могил (даже близ пантеонов великого Стендаля и недавно почившего Золя не посиживали с чаркой проведователи, поминая усопших – как принято в России) походило на каменоломню, оживляли ее завалы лишь редкие птички, да жирнющие коты, что разгуливали по раскисшей прошлогодней листве, устилавшей аллеи.
Средь обветшалых монументов почудилось движение. Вытянув шею, Петр приблизился к отверстому зеву древнего склепа и различил: за столешницей надтреснутого надгробия, горизонтально положенного на торчмя вкопанные плиты, восседают четверо – Антонио Сальери в истлевшем камзоле и червивом парике; коротышка в треуголке и белых лосинах; моложавый старик с прозрачным мешочком, полнехоньким розовых таблеток; горбился удерживавший дуги ребер стиснутыми ободами костлявых рук скелет.
– Если бы ты, Мишель, наворожил победу при Ватерлоо, – пенял старику с таблетками коротышка в треуголке, – я бы выиграл сражение и не был унижен ссылкой в Китай.
Скелет, гремя костями, шамкал:
– Слова наделены огромной силой. Завоеватель Кир связал меня и бросил на костер, я взмолился Апполону – и хлынул дождь, затушил пламя. Вот каково могущество слов!
– Не слов, а молитв! – Грибоподобный (треуголка способствовала этому сравнению) белолосинник резко повернулся к Петру и застиг подслушивателя врасплох. – Опять ты тут! Ты постоянно мне мешаешь! Не позволил подкупить московского градоначальника! – обрушился на обмеревшего Петра пораженец при Ватерлоо.
– Вы ошиблись, – пролепетал Петр.
Коротышка напомнил: племянник Никитушка (тот, что лазал на дерево за вороньим гнездом) подбил Петра притаиться вечером на Спасо-Песковском погосте. Мальчики дождались темноты и появления подлунных призраков, но возник сторож с фонарем и потащил трясущихся от страха друзей к кладбищенским воротам – а по пятам командорски шествовал повелитель в треуголке и белом обтягивающем трико. Пока сторож гремел замком и выдворял нарушителей некропольного покоя – за пределы не терпящих поздних вторжений чертогов –низкорослый провожатый отвешивал ребятам подзатыльник за подзательником.
– Я рассчитывал столковаться с прахами русских воинов 1812 года и подчинить Москву! А ты и твой приятель все испортили! – обрушился на Петра, выходит, давний знакомец. – Простить себе не могу, что ожидая на Поклонной горе ключ от поверженного города, я не предусмотрел поджога. Согласно правилам ратной этики, проигравший приносит победителю ключи. Вместо этого Москву уничтожили!
– Оказали тебе сверхтеплый прием! – подхихикнул старик с таблетками.
– Горячий, – продлил веселого маслица не сгоревший (благодаря вмешательству Апполона) на костре скелет.
– То был оправданный маневр, – пустился в объяснения Петр. – Чтоб вынудить неприятельскую армию убраться.
Коротышку замечание разозлило.
– Мыслить, как мыслишь ты, я умею. Попробуй научиться мыслить неудобно для себя и своей страны, – ворчал он. – Ваш пронумерованный Первым Александр повел себя скотски. Плебейски. Даже люмпены так не поступают!
– Сказано: распоследние станут первыми! Беспроигрышный призыв: плетись в хвосте! – тряхнул, будто погремушкой, мешочком с таблетками. старик Мишель. – А не скушать ли нам по пилюльке?
Полководец еще сильнее рассердился:
– Будучи первым, вести себя, как подзаборник? Такую первость и последнесть сочетают в себе официанты придорожных харчевен: видишь их в первый и последний раз. Чем они, естественно, пользуются: потчуют дрянью. Я не травил народ прогорклостями и тухлятиной, не подсовывал обманное меню неисполнимых благ, не заискивал, выклянчивая чаевые – удлиннение срока императорских полномочий, не спаивал и не обирал нетрезвых и заснувших...
– Ты состряпал неувядаемое блюдо – Конституцию, ею будет питаться не одно поколение французов, – похвалил друга Мишель и опять проаккомпанировал себе погремушкой-мешочком. – Отведайте моего снадобья!
– В России нескоро сышутся сидельцы на троне, умеющие изготовлять конституционную трапезу без уворовываний! – не мог отрешиться от продуктово-поварской аллегорчности коротышка. – Декабристская отдушина, которую я проковырял в вашей чадящей кухне, не выветрила угар московскго пожарища! Дойдет до того, что вашим государством будут править кухарки!
– В твоей стране, Петр, – включился в диспут Сальери. – ты и сам это знаешь, сверху донизу – все рабы, включая царей, все раболепствуют перед собственным невежеством. Поэт Пушкин – раб. Я упрашивал его изъять из продажи порочащие меня «Маленькие трагедии». Он отказал!
Не пропадать же университетскому курсу лекций! Петр решил возразить коротышке:
– Адмирал Федор Ушаков, освободив Грецию от вашего, господин Бонапарт, военного нашествия, самолично написал для греков конституцию, объявил страну республикой! В моей стране есть кому стряпать не только борщи и расстегаи!
Наполеон парировал:
– Греция стала республикой, России подобная участь не грозит. – И сфокусировал раздражение непосредственно на Петре. –Что за накидку ты напялил? Вас, русских, сразу отличишь по манере уродски наряжаться. – После чего обратился к приятелям-измогильцам: – Вы ошиблись в ставленнике. Возлагаете на этого неуча чересчур большие надежды!
Мишель проглотил таблетку и вступился за Петра (но ручательство прозвучало обижающе):
– Горовиц, конечно, был предпочтительней… Но и этот подвернувшийся задавака сойдет.
Сальери недвусмысленно уважил Петра:
– Не беда, что студентик не знает будущего. Нельзя его за это винить. Попал под влияние шубертов, бетховенов и прочих моцартов, а они ворожат Австро-Венгрии и Германии, прочат им победу в начинающейся войне. Мальчишка посодействует очищению моего имени от пушкинской пасквильности! И спасет русского царя. Наш долг: просвещать несмышленышей. Довожу до твоего сведения, Петр: русскому царю грозит опасность.
– Я не симпатизирую царю, – объявил Петр.
Собеседники тотчас утратили к нему интерес, принялись судить-рядить: из какого мрамора воздвигнуть памятник балерине?
– Надеюсь, ей удастся сбежать из России на корабле, плывущем в Венецию, – говорил коротышка. – Я неравнодушен к красивым женщинам и хочу, чтоб она упокоилась во Франции.
Червивый композитор и скелет покатывались:
– Матильда умерет нескоро, ей перевалит за 90. Вы, ваше императорское высочество, к этому времени будете в Пекине или Гуанджоу. Храните верность Жозефине. И готовьтесь к встрече с узкоглазыми поклонницами.
Императорское величество наливался предгрозовой чернотой:
– Ничего смешного в моем предстоящем восточном перевоплощении нет! Я совершенно не знаю, что за страна – Китай. Почему должен вселяться в младенца Дэна, крошку Дэна? Телесный костюмчик мне подобран по моему нынешнему и прошлому размеру?
Моложавый старик с таблетками оповестил:
– Дэн Сяопину предстоит вывести отсталый, гоняющийся за воробьями народ в передовые.
– Мне? Заниматься воробьями? Из пушек палить по воробьям? Мой военный масштаб требует другого размаха! – выпятил грудь коротышка. Он претендовал: – В мире возникнет немало военных передряг! Я мог бы оказаться полезен в качестве ядерного стратега. Этот Дэн, согласно небесному предписанию, должен полеживать на кушетке и время от времени давать указания. Только и всего! Решение о моем вселении в его вместилище принято на оскорбительно низком для меня уровне и всего лишь на основании нашей одинаковой малорослости. Хочу в Россию! Где все огромно! Я пытался наняться в русскую армию, да меня не взяли! Согласен стать Троцким! Керенским! Могу карябать публицистические статьи и подписывать их «Ленин»! Зря, что ли, отбывал ссылку на острове святой Елены!
Трое компаньонов строили скорбные гримасы, но под куцыми соболезнующими масками не умещались широкие улыбки непобедимой шутейности:
– Каждый проделывает путь: от Бородино – к сожженной дотла победе, от Ватер-лоо до ватер-клозета…
Петр покашлял, напоминая о себе. Попытка привлечь внимание успеха не достигла. Квартет подземножителей (или все же – небообитателей?) игнорировал студента. Обострившиеся в общении с мертвецами дипломатические задатки все же помогли Петру выстроить маневр сближения:
– Пишу реферат о противоборстве богов. Сведения, которыми вы располагаете, обогатят мое исследование… – И потрафил впрямую: – Не с богами ли имею честь пребывать в общении?
Сальери, справившись с одышкой, осадил льстеца:
– Не лукавь! Меня ты знаешь. О великом полководце наверняка догадался по форме его головного убора. Он сбежал из Дома Инвалидов, где покоится его прах, не только ради Матильды, но и для встречи с тобой. Рассыпающийся скелет – богач Крез. Моложавый благодаря воздействию чудодейственных таблеток Мишель носит всемирно известную фамилию Нострадамус. У каждого из нас – долгая цепь превращений и перевоплощений. Я был английским пиратом. Нострадамус – фараоном Хеопсом. Богач Крез – нищим рабом. Мы были птичками, рыбками, кенгуру и антилопами… Предстоит ряд последующих метаморфоз. Бонапарта удручает назначение в Китай… Но его жребий – пустяк по сравнению с тем, что предназначено твоему отцу.
До того, как утратить ясность мысли, Петр успел спросить:
– О какой балерине ведете речь?
– О Матильде Кшесинской, – откликнулся погромыхивавший костями скелетный несожженец. – Твою страну ждет плохое, Петр. Не будь болваном! Передай царю о надвигающейся угрозе. Из своих богатств я готов оплатить твой обратный путь. В России ты нуженее, чем в Париже. Сбережения Матильды под моим надзором, на всякий случай я приобрел для нее особняки в Париже и Лондоне, забронировал могилу поблизости от укромного уголка, где мы сейчас беседуем, но до этого лучше не доводить. Пусть паненка, а к полячкам, всем известно, у мужчин особое благоволение, сохранит свои миллионы и дом в Петербурге. – Скелет не упустил шанс подхвалить отчизну Петра: – Россия богата, как я, а богатство не дается понапрасну! Проценты надо отчислять в Копилку Господа.
Тяжело роняя слова, внедрился в беседу коротышка в треуголке:
– Мы с тобой возимся, Петр, обращаемся к тебе, как к равному. Мы тоже не в восторге от Николашки. Но, согласно заключенному меж невысокими правителями пакту, я обязан помочь ему. Надо спасти Николая Александровича, красивых женщин, великую культуру, великое государство. Я на своей шкуре испытал тяготы изгнания и не желаю подобного никому.
Сняв парик и вытряхнув из него червей, Сальери просипел:
– Больше того, что открыли, сказать не можем. Ты готов к воробьиному полету в Москву? У тебя есть прерогатива: стать котом и шпарить в Сараево, перебежать дорогу автомобилю эрцгерцога…
На свисавшие веточки опустилась стая синичек. Возле замшелого постамента собралась и уселась, подобрав под себя хвосты, компания пушистых котов.
Крез гаркнул:
– Пора! Сальери и Бонапарт, марш в котов! Нострадаус, айда за мной – в синичек!
Нострадамус вложил Петру в ладонь таблетку. Крез, Сальери Бонапарт и Мишель рассредоточились по птичкам и мурлыкам.
Петр помчался разыскивать телеграф, чтобы сообщить отцу о скорой войне и (может, грянувшей уже?) революции. Однако, по какой бы улице ни бежал, наталкивался на подсвеченную неоном мельницу и шарахался от этого иллюминированного миража, но вращавшее крыльями наваждение вновь и вновь, дон-кихотски искушая, вырастало на пути. Подмигивали лампочки, окунтуривая фигуру обнаженной женщины (не монмартровскими ли мазилами намалеванную?), изнутри лилась музыка. Петр поймал себя на мысли, что не прочь заморить червячка: исходя из названия «Мулен де ла Галет», вертеп мог ублажить галетами. Ворвавшись в переполненный зал – как в избу на курьих ножках, где обитает Баба-Яга, – начавший привыкать к европейскому всесмешению (троичность Господа и мужские причиндалы, бойкая пьяная торговля святым искусством по соседству с кладбищем, а к воспетому Гюго собору Пресвятой Девы льнут оскорбляющие высунутыми жалами таинство беспорочного зачатия химеры на каменных уступах – верно говорит Константин Петрович Победоносцев: к православным церквям такая мерзость не липнет!), Петр неожиданно подуспокоился и предположил, что в мельнице-трактире-кабаре, пожалуй, неплохо подкрепится.
Звенели сладкие голоса, полуодетые танцовщицы развратно извивались на круглой сцене. Пророчество о Кшесинской, убегающей из России, отступило под натиском витавших аппетитных паров. Сквозь марево табачного дыма Петр увидел прекрасную незнакомку – на сей раз она была не в леопардовой шубе, а в военного покроя френче с брильянтовыми знаками зодиака на погонах и в петлицах. Перед ней стояла вазочка с мороженым.
Петр опустился на единственный пустовавший – будто только его и ожидавший – мягкий стул. Подскочил и согнулся в поклоне благоухавший цветочным одеколоном официант. Петр велел принести суп из сельдерея.
Подавальщик в глухом подпиравшем горло фартуке (точь-в-точь, как у его варшавского коллеги) привез на серебряной тележке дымящуюся, окутанную обворожительным амбре тарелку и поставил перед Петром. Петр отведал первую ложечку и едва успел вытащить, сняв с языка, длиннющий волос. Стало ясно, почему воняет травяным мылом. Здесь им моют посуду? Или шевелюры и бороды?
Пальцами, обтянутыми белыми шелковыми перчатками, вышколенный гарсон извлек из похлебки еще одну волосину.
– Ох, и разварился же сельдерей! – приговаривал он.
Тошнотворный спазм удалось притушить крахмальной салфеткой. Шаривший в супе несвежей перчаткой бланманжетник был копия английского короля Эдуарда! Может, сбритая им со щек утренняя щетина и сдобрила, и украсила кушанье длинными волокнами, а короткие назовут – маринованным укропом?!
Точность сравнения, исторгнутого гнилым Наполеоном, сразила Петра: заправилы кухонных версалей – монархи и повара – куражатся над клиентами и челядью, преподносят бурду и помои под видом изысканных яств. Голодные (да и сытые) зависимцы – целиком во власти государственных и ресторанных отравителей!
На десерт ему предложили сыр с червями и плесенью! Петр, стиснув зубы, ринулся к выходу, по пути дополнительно огорчившись: зодиакальная незнакомка исчезла, куда-то подевалась!
Ночью, в беспокойном сне, он тащился, влекомый зловещим неразговорчивым извозчиком, мимо Останкинского дворца – похожего на раскинувшую крылья бабочку «павлиний глаз», пронзенную взметнувшейся из русской почвы и вытянутой до облаков (в Господа нацеленной?) родственной Эйфелевой башне толстой иглой. Неподалеку, на мраморном основании, дыбился исполинский кобылий хвост, вершину которого седлал холодно поблескивавший артилеристский снаряд. Петр ворочался в испарине: «Карабкаясь по цельнолитым и перепончатым гулливеровым шпилям – взберутся ли покидающие землю души ввысь или соскользнут, как по ледяному желобу?».
Пробудившись, звал: «Ангел мой, пойдем со мной!». Утрата ладанки тяготила с каждым днем надрывнее. Отщепи от себя хотя бы малость привычного – и перестанешь быть собой всегдашним…
Вместо ангела нарисовался близ Триумфальной арки увертливый шибздик. Петр не сразу его узнал: шплинт облекся в дорогой костюм, обмотал шею тонким кашне. С непередаваемыми обезьянними ужимками бесенок выложил:
– Тороплюсь на собрание. Не желаете примкнуть? Милости прошу к нашему шалашу. Нравится рифмочка? Сочинил в Финляндии, скрывался там в камышовой хижине.
Петр, не вслушиваясь в шалашово-камышовое шуршание, монотонно, как стук дождя, повторил:
– Верните ладанку. Я полагал: вы – обязательный человек…
Необидчивейший из всех, кого Петр знал, притворщик состроил уморительную ежиную мордочку:
– Ладно, так и быть, на собрание не ходите… – И взмахнул (ну, прямо, как знаменем) измятым, из-за пазухи выхваченным прямоугольничком. – Узнаете? Свой конверт? Вы мне сунули в нем подачку. Мы, революционеры, презираем деньги. Поэтому ваш конверт опустел: средства пущены на подготовку восстания. Но грош мне была бы цена, если б я, как революционер, не был бережлив. В опустевший, однако, пригодный для использования конвверт я вложил важное послание. Отнесите письмецо товарищу по кличке «Перо». Адрес на обороте. Я бы доставил сам, да за мной следят…
Петр рта не успел разинуть (чтоб отшить наглеца), а шплинт подцепил, посадив на привязь:
– У него пальто. И, соответственно, амулет.
Дверь квартиры, куда пришел взволнованный Петр, долго никто не открывал. Потом она слегка приотворилась, в щели мелькнуло бледное нервное лицо. Субъект и верно был в пальто (увидел Петр, шагнув в прихожую), напяленном на худое голое тело. Лацканы измызгались, рукава обтрепались!
– Отдавал новое! – не смолчал Петр.
Взъерошенный адресат нацепил пенсне и тускло вперился (недаром кличка была «Перо») в недовольного курьера.
– Я б давно выбросил ваши обноски. Но они напоминают: был обкраден по пути в Одессу… – Мечтательно пенснешник проворковал: – Бумажка ваша ни к чему. – И смял конверт. – Вот если б привезли весточку от моей ненаглядной…
Петр взбесился:
– Какой еще «ненаглядной»? В кармане кулончик. Амулет!
Перо впал в не сочетавшуюся с его холодным обликом певучесть:
– Поезжайте в Россию, в Златополь. Вам все равно куда мотаться? Ах, юноша, вы не знаете, что такое любовь!
– Я не мальчик на побегушках! – взвился Петр. И, вопреки воле, прибавил: – Я неравнодушен к одной особе. В леопардовой шубе. – Но вернулся к главному: – Ладанка у вас?
– Исполните просьбу, в долгу не останусь. Иначе запишу во враги. А с врагами разговор короткий. Если враг не хочет быть на побегушках, его уничтожают. Во сколько оцениваете ваш кулон?
Петр хлестанул:
– Я не намерен торговаться!
Очкарик взирал серыми ледяными зрачками, расплывчато смотревшими сквозь мутные окуляры. И держал дистанцию: дальше прихожей не пускал.
– Это вы торгуетесь. А я прямо говорю: отвезите. Будете вознаграждены. Я назначил девушке свидание, прийти не смог, меня схватили. Я сбежал из-под ареста. Но возвращаться в Россию слишком опасно.
– Для настоящей любви нет преград, – с благородной дрожью в голосе сказал Петр. – Поезжайте к возлюбленной, как поехал Петруша Гринев, не убоявшийся Пугачева!
В грудь Петру уперлось дуло америкаеского «айвер-джонсона».
– Пристрелю и не поморщусь. Проклятый шпик, Предатель! – Четырехглазого обуяло безумие. Взгляд за стеклышками туманился и был устремлен мимо Петра. Закатились белки. – Я давно знал: твой наниматель с улицы Бонье причастен охранке! Из-за тебя явка близ парка Монсури провалена!
Превыше всего на свете Петр дорожил своей репутацией. («Беречь честь с молоду» – было непреложное семейное правило). И вот – жутчайшее недоразумение, несправедливое обвинение, ужасное подозрение! – грозили подмочить реноме.
– Ко мне ваши домыслы не относятся! – крикнул Петр.
Фанатик отнял дуло и свистяще подул в него, а после продолжил держать Петра на мушке. Петр ждал: Перо остынет. Но тот лишь распалялся:
– Иди к приславшему тебя провокатору! Не заманите меня на Бонье, №9! – Очкарик растоптал конверт. Тон сменился на лающий. – Никаких вещественных доказательств. Ни письма, ни пальто, ни амулета! Из-за твоей висюльки весь сыр-бор!.
Петр не чаял вырваться. Проказа, разъедавшая извилины психопата, могла перекинуться на здоровый мозг и воспалить неизлечимо. Паралич логики заразен! Самое правильное (и гуманное) было: пригласить врача и отправить помешанного на излечение. Но в клинике – в припадке и трясучке – Перо мог выдать дружка-шпинделя. Проговориться о явках и адресах. Выручить «чертенка» в поезде, а теперь неосмлотрительно отдать в лапы закона? Этого Петр себе никогда бы не простил. Да и подсуропить оковы, смирительную рубашку и громыхающие кандалы для Перо было подлостью.
Обосновавшись в неуютной забегаловке (и не веря, что жив и невредим), Петр наблюдал: под накрытым красно-белой клетчатой скатертью столиком плотоядная кошка играет полузадушенной мышью. Стоило охотнице оставить жертву, мышь пыталась улепетнуть, но хозяйка положения зорко приглядывала за скребущей лапками пленницей и придавливала ее когтями. Если к стойке направлялся посетитель, кошка хватала добычу и уносила в укромное место, потом возвращалась с мышью в зубах. Бармен, цедивший пиво в кружки, смахивал на румынского кронпринца Фердинанда Первого и болгарского тонкоусого короля Михая. Два котенка пожаловали, чтоб сообща разделять удовольствие мучительства. Петр думал: «Почему не прикончить сразу? Зачем душить, отпускать и опять душить?».
На душе скребли кошки и коты (кладбищенские, в которых вселились Сальери и Банапарт, варшавская, выброшенная из кафе за шкирку во время умывания, и теперешняя, катавшая по полу норушку). Саднило: «Удастся ли вернуть оберег?». Роль мышонка или бантика, который когтят, унижала Петра. Лысый шибздик и Перо с револьвером, заключил Петр, не настоящие, а фальшивые заботники о народном благе. Подлинные революционеры не обманывают, не грозят убить, не шантажируют и не вымогают деньги. «На непозволительном далеко не ускачешь! Свершив нечестность, достигаешь быстрого и по видимости благоприятного, но на деле обратного результата!».
Набравшись храбрости, Петр отправился, по адресу, названному очкариком – на улицу Бонье
Там поджидал жандармский чин – тот самый, что перетряхивал багаж при зедержании на выезде из России.
– Знал: рано или поздно вы появитесь…
Петр приготовился молчать. А в случае необходимости – отбиваться. Но офицер с войлочной нашлепкой на проплешине не горел желанием выпытывать. Удобно расположившись за письменным столом, он закинул ногу на ногу, закурил папироску с золотистым ободком и повел собственную речь:
– Люди свергают власть, при которой неплохо устроились… Почему?
– Потому что за тех, кому плохо и кто не может за себя постоять, надо заступаться, – прямодушно ответил Петр.
– Такие не сознают, что живут плохо. Умишка не хватает, – офицер пускал дымные кольца и был похож на ребенка, надувающего мыльные пузыри. – Те, кто бедствует, будут в-третьих и в-десятых степенях несчастны при любых режимах и политических подоплеках, это всеглашний удел второразрядности… – Плавно он перешел к приятной (поначалу) для Петра теме: – Ваше исследование «Борьба за главенство на небе» позабавило меня. – Притча о том, как после крещения Руси спихнули в реку изваяние Перуна, до дрожи актуальна: променяли свое славянское на чуждого иудея из Назарета!
Пододвинул Петру лежавшие на столе типографски отпечатанные листы. Кровь бросилась в голову: Петр узнал (и с ужасом не узнал) свой реферат.
– У меня было о богах!
– Да, перелопатили… Но не станете отрицать: евреи почитают себя богами. – Жандарм сочился благожелательством: – Заплатим хороший гонорар.
– Не нуждаюсь в премиях! Ваши приемчики омерзительны!
Петр не знал, как поступить. Уйти (хлопнув дверью)? Но с бесстыжих передергивателей станется напечатать опус, приписав спекуляцию – не имевшему к ней отношения автору совсем другого текста! – Я запрещаю! – Петр отбросил пахнущие едкой краской испоганенные оттиски.
– Зря. Сережа Нилус не гнушается. Принял участие в переделке вашей компиляции… – Теперь жандарм низал табачные кольца, будто баранки, на маленький блокнотик: – Здесь перечень ваших встреч, знакомств. Исходя из этого списка – тревожно за вас. Банда крепко взяла вас в оборот. Либо вы с ними – либо с нами.
– Я сам по себе! – отчужденно пробормотал Петр.
– Так не бывает. – Искуситель пригладил пришлепнутую прядь. И нараспев процитировал: – «Двух станов не боец, а только гость случайный…» Это не о вас. Сделайте шаг к сотрудничеству. Ведь не наплевать же вам, что родина пойдет прахом...
Петр сказал:
– Скоро грянет война. Вот о чем надо звонить во все колокола.
– А подробнее? – Затушив папиросу, жандарм подался к Петру. Взял карандаш, готовясь стенографировать. – Что вам известно? От кого?
– От Сальери, Креза, Наполеона и Нострадамуса. – Петр очень вовремя вспомнил о полученной на кладбище розовой таблетке и достал ее из кармана. – Нострадамус говорит: Кшесинской придется бежать…
Плешивый проглотил – не таблетку, а, по его мнению, насмешку. Отодвинул приготовленные бумаги. И с удивительной легкостью отпустил Петра:
– Вряд ли нам суждено разминуться в этой жизни. Вы жестоко поплатитесь. Если не осознаете серьезность своего положения.
Чтоб не сделаться невольным жандармским пособником и провальщиком явок, Петр (заключивший после беседы с офицером: за всеми подпольщиками ведется слежка) не стал разыскивать шибздика и повторно навещать свихнувшегося сумасшедше влюбленного Перо (одной встречи с ним впечатлительному студенту хватило впрок), а отбыл в Швейцарию.
Неприкаянно прогуливаясь по берегу Женевского озера (тяжелые думы угнетали Петра: будучи сакрально приобщен вселенских тайн – он наталкивался на обман, недоверие и усмешки), увидел спешащего к нему господина с фатовскими усиками и в брюках со штрипочками. Тип размахивал необычной тростью: набалдашник блестящего металла, рукоятка в виде львиной головы.
– Я – Мойша Хейфец! Мы встречались в приемной доктора Фрейда! Вы ушли, а я остался. Пинхас Фальковский угостил вас и меня мацой, – тараторил циркульно вышагивавший торопыга. – Приглашаю, как условились, на заседание мирового правительства!
Ухватив Петра под руку и не обращая внимания на его протесты, развязный полузнакомец энергично повлек упиравшегося путешественника к полуразвалившемуся шале.
– Сделаю вас министром! Грошовый вступительный взнос! Съехался цвет элиты!
Петр пытался открутиться:
– Не хочу!
– Все так говорят. Что нет денег. А потом изыскивают, – тараторил фат. – Министерский пост – не фунт изюму. Кстати, я приторговываю русским оливками. Прямо сейчас и коаптирую!
В неотапливаемом зале за длинным столом почесывались, ковыряли в носу и потягивали через соломинки из пузатых, похожих на тюльпаны, бокалов разноцветные напитки неряшливые люди. Лица набрякли значителностью, одежда настораживала небрежностью.
Мойша перечислял:
– Здесь австрийские Габсбурги, испанские Бурбоны, румынские Гогенцоллерны, болгарские Кобурги, сербские Карагеоргиевичи… Сам кайзер Вильгельм находится здесь. Инкогнито присутствует русская императрица. Вон она, рядом с португальским виконтом и бургундским принцем…
Пучеглазая особа – базедовость просвечивала даже сквозь плотную вуаль – смахивала на супругу неуловимого шибздика.
– Это не царица! – усомнился Петр.
– Вам приходилось видеть царицу вблизи?
– Приходилось.
– А сами не хотите выдать себя за племянника русского царя?
Петр оскорбился:
– За кого вы меня принимаете?
– За министра связи! Неважно, за кого принимаю вас я. Важно, за кого вас примут присутствующие.
Пучеглазая наклонилась к одутловатому, испитому соседу (Петр готов был поклясться: это – официант, вышвырнувший кошку из варшавского кафе!), вуаль приподнялась, и Петр стопроцентно опознал жену бесенка!
– Ручаюсь: она не Алиса Гессен-Дармштадская!
– Молчите! – прошипел Мойша. – Зато, в отличие от вас, внесла взнос.
– Причем – моими деньгами, – не пощадил самозванку Петр.
– Значит, я не ошибся: вы – не пропащий. То есть – не нищий. Я сделаю ее русской царицей. Вот увидите. Ее будут звать принцесса Крупская. А вас – генералиссимусом!
Повинуясь призыву Мойши, слуга в расшитой бисером ливрее (в таких забавляют публику шпрехшталмейстеры в цирке) принес большой короб, верхнюю плоскость которого рассекала прорезь.
– Опускайте пожертвование! Не жмитесь! – скомандовал Мойша. – За все надо платить. Тем более за высокое общественное положение… В сумму взноса включен дармовой коктейль.
Петр, не собиравшийся раскошеливаться, под напряженным взглядом слуги сунул в щель купюру.
– Сыпьте больше, не ставьте меня в неловкое положение перед починенными, – подвигал Петра к неумеренности Мойша. Не дождавшись удвоения суммы, ушел и увел прихлебая с коробом.
Оратор, взошедший на трибуну, объявил:
– В повестке: боевые действия в России, Германии, Австрии, Англии и Франции…
Заинтригованный Петр приготовился слушать.
Слово взял сухопарый джентльмен с моноклем и принялся рассуждать о том, что давно пора приступать к захвату забегаловок, пивных, а то и респектабельных ресторанов:
– Богатые редко принимают пищу вне дома. У них штат поваров и кухарок. Но если случается оказия, и попадают в наши заведения, упускать их живьем нельзя! Если уморим хотя бы малую часть богатых, образуется вакуум в их среде, и мы его заполним. Сам я служу гардеробщиком в рюмочной на Девятой авеню Нью-Йорка. Но частенько отлучаюсь со своего рабочего места и подбрасываю тараканью отраву в бокалы и закуску!
Посудомойка, взошедшая на подиумное возвышение под ручку с запомнившимся Петру длиннофартучным официантом варшавского кафе выплеснула наболевшее:
– Наглецы требуют чистых тарелок и салфеток! Интересно: а у себя дома тоже едят с чистого и чистым? Конечно, нет! Споласкивают, как все достопочтенные граждане, ложки, тарелки, ножи раз в неделю!
Варшавский официант был был настроен радикально:
– Чертовы клиенты не приходят день, два, три, а на четвертый заваливаются большой компанией и требуют свежей еды! Откуда ей взяться, если протухала неделю? Пусть жрут тухлятину! Уж не говорю о вечно недовольных мелочевых потребителях кофе и круасанов! Вместо кофе я наливаю им жижу из лошадиного стойла!
Метрдотель парижского «Мулен де ла Галет» меланхолично ныл:
– Цацкаемся, а надо не заперчивать и пересаливать скислятину, а впихивать дизентерийную палочку и палочку Коха!
Заговорил коренастый боровичок с большими кулачищами:
– Я вышибала из обыкновенной столовой, приторговывающей винными суррогатами. От них слепнут и глохнут. Но я ввел дополнительную услугу: стряхиваю пепел с папирос и плюю в котлы, где варят суп и гарниры…
Присутствующие зааплодировали. Петр, примостившийся на высоком стуле рядом с барной стойкой, испытывал те же спазмы, что после отведывания волосатого сельдерейного супа. Подоспевший ливрейный слуга снабдил его мутным коктейлем.
– Это антирвотная микстура. Изготавливается из нашатырных и анисовых спиртов, – сообщил разносчик пойла. – Я решительно против отравительских методов мелкого сброда. Этому рванью не сделаться хозяевами ресторанов экстра-класса. Если согласны поддержать мою кандидатуру на пост министра торговли, дайте деньжат вне коробочной кассы!
Председательствовавший рыхлый толстяк (в засаленном смокинге и манишке) обмотал колено приглашенного на подиум Мойши голубой лентой.
– Орденом Подвязки награждается премьер-министр Мойша Хейфец, – провозгласил засаленный. – За неоценимый вклад: обыгрыш в покер банкира Ротшильда, что позволило нашему комитету разжиться немалыми дивидендами…
Награжденный благодарственно склонил голову.
Сидевшие за столом францзский дофин и кардинал Папы Римского (значилось на прикрепленных к их лацканам табличкам) обменялись репликами:
– Кто такой этот Мойша Хейфец? Откуда он взялся?
– Пархатый еврей! Такие оборотистостые максимум годятся на завладение сетью фастфуда!
Мойша со сцены декларировал:
– Подчиним мир, возьмем в союзники спешку и неразборчивость! Привлекайте всех, кто может оплатить министерские портфели!
Посреди стола явилась стопка листов в зеленой обложке. Петр дотянулся до нее и обнаружил: это – его отредактированный жандармами реферат!
– А какой в Швейцарии шоколад! Настоящий, сливочный… – раздался голос дедушки, находившегося за спиной Антона. – В те дни, когда я присутствовал на созерцаемом тобой сборище, о пивном путче и концлагерях никто слыхом не слыхивал. Если бы не деньги изгнанных из Германии и замученных в концлагерях узников, до сих пор хранящиеся в швейцарских банках, дивную Свитзеландию и впрямь можно было бы уподобить молочно-сливочному раю!
Антон отследил через подзорную трубу пути миграции обагренного кровью золота, продолжавшего перетекать, как песок в песочных часах, из банка в банк, из кармана в карман, из сейфа в сейф (и на манер мельничного колеса заставлявшего вращаться жернова бизнеса) – и ужаснулся: спустя много лет честные люди оказывались замараны кровавыми изъятиями.
Петр подступил к пучеглазой королеве:
– Почему не хотите вернуть медальон?
Она с надрывом произнесла:
– Володя обещал подарить кулончик мне. А потом передумал. Поезжайте в Монте-Карло. Он со своей фифой в казино каждый вечер… Ладанка у него. Если, конечно, ее не выпросила Инесса. Она падка на красивые вещицы…
У выхода из шале околачивались комические персонажи.
– Кто присутствовал? О чем говорили? Почему меня и моего друга Адольфа не пустили на заседание! Хотя в качестве взноса я безвозмездно отдал свою брошюру! – восклицал литератор Нилус.
Художник Адольф грозил кулаком участникам прений:
– Пожалеют, что не пригласили меня в синклит и ложу! Да, не могу наскрести вступительный взнос. Мои картины не продаются. Но создам Гернику – во всю стену Рейхстага: эльгрековские горбоносые грифы расклевывают распростертую рубенсовскую Европу. Ротшильды, Дюпоны, Морганы, Рокфеллеры будут в очереди стоять за моими бессмертными полотами…
– Грядет мятеж официантов! – поведал не допущенным на заседание невовлеченцам в мировой заговор Петр,. – Кухарки начнут править государствами и помыкать народами! Об этом предупреждал еще Наполеон!
– Неинтересно! – Нилус записал что-то на бумажном клочке. – Нужны громкие разоблачения! – И пообещал: – Отхлещу тайных заправил! Вот что завтра же опубликую: «В разгоревшихся спорах о том, какое количество людей должно остаться на земном шаре, большинство ораторов назвало цифру: две тысячи – до такого предела нужно сократить население планеты, чтоб поклоняющиеся звезде Давида вурдалаки могли кормиться посреди истощенных полей и пашен. Проблему нехватки пресной воды предложили решить за счет России, ведь она располагает главными мировыми запасами влаги, решено напасть на нее, развязав войну!».
Посмурневший Мойша, с перебинтованным лентой коленом – орденом Подвязки! – и опираясь на диковинную львуголовую трость, увлек Петра к свинцово-серому озеру.
– Когда повезете царю протоколы… – И вручил реферат в зеленой обложке. – Скажите ему, а он пусть передаст Шимону: напрасно старик не отдает за меня Ревекку. Я провернул в Монако прибыльное дельце. Скажите царю, а он пусть скажет Шимону: Мойша в затруднении, не может выбрать, с каким из банкирских домов Ротшильдов породниться, то ли парижским, где верховодит Лионель, то ли лондонским, где главный – Натаниэль… Я, может, женюсь на племяннице Рокфеллера! – Свежеиспеченный кавалер Подвязки взгрустнул, что плохо сочеталось с его победительным видом. – Ни одно доброе дело не остается безнаказанным! Не щажу себя ради всесчастья людей! Но люди не понимают: за счастье надо платить. И платить не хотят. Трясутся над каждой копеечкой. Сделаю вас министром финансов, если объясните им: деньги, как женщины: чем с ними пренебрежительнее, тем прочнее липнут. Шимон прогадает, если откажет мне – председателю мирового правительства!
ПРОИГРЫШИ И ВЫИГРЫШИ
Стихли трели, извлеченные Самуилом Горовицем из волшебного скрипичного лона. Приезжие меломаны приходили в себя после пережитого музыкального потрясения, озирались и задавались вопросом: «Что мы забыли в убогой провинциальной дыре?».
Шимон перелистнул последнюю страничку обвинений, предъявленных Менахину Бейлису и в изнеможении закрыл лицо руками.
Мойша Хейфец обнаружил себя сидящим на покосившемся крыльце незнакомой развалюхи и не мог взять в толк: куда девались присягнувшие верой и правдой служить мировому правительству кандидаты? Но увидел выходящего из дома Пинхаса, и мозги встали на место: любовь – блажь и вздор, пусть Пинхас, средь огородных пугал в старых фетровых и соломенных шляпах, кланяющихся непрополотым грядкам, дожидается несбыточного счастья, а он, Мойша, выбирает то, что надежнее. Капитал прочнее любви. Привалило богатство – хватай-присваивай. Упустил, прозевал – обратно не воротишь. Любовь – в отличие от тяжелого на подъем золота – легкокрыла: еще не раз прилетит-овеет… Но к нищим окнам не спешат даже голуби и воробьи. А в богатые дома, где кормят и дарят, ломятся люди и чувства. Коль Ревекка ответит на его предложение о свадьбе согласием, альянс с дочкой Ротшильда можно отложить. Но и отвергнутый строптивицей Мойша – не пропадет!
Шимон отнял ладони от лица и сказал завороженно прослезившемуся в связи со смычково-скрипичным неистовством ребе:
– Мудрость, бывает, отступит в минуту умственной расслабленности и возвращается. А хочется поглупеть надолго! – Он захлопнул стенограмму предстоящих судебных слушаний. – Целое небесное царство дано блаженным и убогим – бери, владей! – ибо земная юдоль безраздельно принадлежит ушлым и наторевшим…
Ребе принялся раскачиваться, будто стоял перед Стеной Плача в Иерусалиме. Он хотел расшибить свой высокий лоб и расквасить горбинку на носу.
– Не пролезть в игольное ушко не похудевшим. Справедливости на всех не хватает. Но ради ее увеличения мужья уже перестали желать чужих жен. Жены начали уважать тех, кто их не желает. Умерщвляется плоть и торжествует дух. Несудимые судят неподсудных, за что не будут судимы никогда!
Перемолвившись с Пинхасом, Мойша вывел: привалила огромная, крупная удача. Ураган неслыханных прибылей принес его, председателя мирового схода, в щедрый Златополь!
Мойша извлек из кармана затертую колоду. Успех следовало предварить и лишь затем оприходовать, приобщив навар к предыдущим накоплениям. А пока посеять слух: в карточном состязании ему, Мойше Хейфецу, никогда не везло.
– Перекинемся? – предложил Мойша Пинхасу.
И дважды уступил не понимавшему, чего от него добиваются, дурошлепу. Рассчитался за проигрыш наличными. После чего направился в абрикосовый сад и оповестил Шимона и ребе о своем позоре. Вскользь Мойша пробросил:
– Могу я надеяться, что почтите карточный турнир присутствием?
Шимон ответил дипломатично:
– Если не буду занят. А занят я всегда.
Ребе сказал:
– Мойша, не обдирай Збарского. Иначе Бейлису и всем нам придется туго..
Мойша удручился:
– Как плохо вы обо мне думаете! Без Збарского Бейлису не выкарабкаться. Я – за Бейлиса! Но миллионов Збарского не хватит на подкуп прожженных судей. Государство заплатит им больше. Государство не поскупится, чтобы оклеветать еврея.
Мойша вернулся к Пинхасу и повторил много раз, чтобы Пинхас затвердил и усвоил: он, Хейфец, – неважнецкий игрок, ибо любим Розалией Ротшильд. «Не везет в любви – везет в карты. И наоборот. Ты, Пинхас, настолько нелюбим, что карточных конкурентов у тебя даже не предвидится. Обдерешь, пустишь по миру, ощиплешь тонкорунных паршивых овечек – меня, сахарозаводчика Збарского, ботаника Симиренко, астронома Циолковского, студентика Левушку Бронштейна. Даже по клочку – ощутимая прибыль».
Таких гадостей Пинхасу никто никогда не говорил. Пинхас завалился в шинок и безобразно напился. Не нужна трезвая, не раскалывающаяся от боли голова, если нелюбим Ревеккой! Пришедшие вызволять безутешца Янкель и кузнец Эфроим напомнили: «Ты дал слово покойному Готлибу не переступать порог шинка!». А Пинхас заплетающимся языком изложил убыстренно вызревший под воздействием согревающих винных паров план:
– Картишки возмесят любовную проруху. Буду жестким, хватким, извлеку пользу даже из несчастий. Надо брать что дают. Так говорит Мойша Хейфец. Тогда положишь на лопатки холодный жестокий мир.
Янкель и Эфроим под руки увели наклюкавшегося несоображенца в свои покои (не рискуя оставлять без присмотра в доме-развалюхе, откуда он мог вырваться и исполнить еще одну серенаду под окнами Ревекки), а он твердил: спиртосодержащие напитки – сверхперенасыщеный энергоэкстракт, стакан горилки, грога, глинтвейна (крайне популярного в Вене) позволит разделать Мойшу под орех.
Сын ювелира подстрекал и других потенциальных (и непременных!) участников затеваемого кидалова, заманивал их в славящийся огромной центральной площадью родной ему город: де лишь на привычные стены его расчет, а златопольская чужбина – подспорье высокопрофессиональным соперникам, с которыми Мойша едва ли сдюжит. Что верно, то верно, в харьковских игорных заведениях Мойша завсегдатайствовал чаще, чем в отцовском особняке: по его указке крупье крапили колоды, намагничивали рулеточные шарики, кривили бильярдные кии, не оставляя простачкам шанса отправить костяное ядро в умевшую расширяться и сужаться манипулируемую маркером лузу. (Из Харькова и распространилось по планете бильярдное обозначение проигрывальщика: «лузер».)
На приманку попались оперный бас Микола Христенко, астроном-астролог Циолковский, ботаник Симиренко, Виктор Арлазоров из Гамбурга предложил «вист по переписке», но Мойша почтовую канитель отверг, ему надобились живые деньги, а не накладные расходы. Направо-налево Мойша уверял: государь обещал прибыть на ажиотажный праздник. Апогей страстей не приопустился, даже когда стало известно: Мойша отсоветовал Збарскому нанимать адвокатов для Менахина Бейлиса, обещав, что наймет их сам, и они устроят Бейлису стопроцентное оправдание. (Не до судебных перипетий тем, кто с горящими глазами и трясущимися от алчного волнения руками делает ставки – на фаворитов картометания!)
Сражение стартовало при небывалом стечении публики – в манеже городской пожарной части, освобожденной от конских стойл и бочек с водой: вокруг наскоро возведенной сцены амфитеатром расположились ярусы сидений. Будто эротокобылятники на ипподроме, съехавшиеся эротопокеристы, эротопреферансистки, эротостарички и эротобабушки заключали пари, справлялись о самочувствии скакунов и наездникоы (то бишь вистующих козыряльшиков, а лучше бы озаботились собственным умопомешательством на почве неумеренного азарта!), уточняли правила невероятного марафона. Согласно составленному Мойшей манифесту, куш срывал тот, кому улыбалась фортуна на протяжении всей многоэтапной гонки: в нескончаемых партиях «безика», «подкидного дурака», «пикета», «стукалки» и – в финальном бильярдном спурте.
Четыре начальных роббера не принесли снисхождения ни Збарскому-старшему, ни Левушке Бронштейну, ни Циолковскому, ни Симиренко, ни Пинхасу, ни Христенко, ни учредителю чемпионата – продувному шулеру Мойше, который сдался на милость проигравшим, приговаривая: «Ах, я бедный-несчастный, зачем дал себя втянуть в кавардак!». Причитая, предложил перекинуться (передышки ради) в донельзя простенькие «Тринадцать». Инициатива была одобрена карасями, еще не поджаренными и не осметаненными, но активно вплывавшими в подсунутю Мойшей виршу, согласно элементарной процедуре – банкующий снимает с лежащей рубашкой вверх колоды верхнюю карту и объявляет: «двойка», потом снимает следующую и возглашает: «тройка», потом – «четверка», и так поочередно, до туза, если выклик совпадет с лицевым обозначением – триумф! В баталию ввязались охочие до легких заработков и примитивных забав Вася Панюшкин и Никодим Сердечкин. Мойша облапошил-раскурочил понтеров, доставая и пуская в ход припрятанные в рукаве и носках дубликаты победных сочетаний, жалобы его стали еще надрывнее: «Почему я не богач – не чета Збарскому!». Многие жалели притворщика.
Пинхас, теряясь из-за того, что происходит не могущее происходить: вот же, не было нужной карты – и вдруг появилась (в прикупе Мойши), безнадежно запутывался в непостижимом передергивании. Збарский, Бронштейн, Вася, Симиренко, Циолковский терпели крах. Мойша их убедил: наивыгоднейший реванш – при максимальных ставках – принесет американский бостон, а играть стал по правилам европейского бостона. Когда дилетанты раскусили подвох, Мойша заявил, что вообще-то привержен бостону тамбовскому, но если это кого-либо не устраивает, готов сразиться в «экарте» – схожее с «макао». И, потешаясь над простофилями, завершил гарцующий аллюр «польским банчком». При этом унижал противостоянцев устно (да так, что было не придраться): «Требуются «болваны», то есть пассивные участники преферанса!». Или повторяя: «Чтоб вы стали такими же умными, как тетя Дозя через нелелю после случившегося».
Неукоснительно Мойша требовал подтверждения кредитоспособности деморализованных бедняг: Збарский по его приказу выложил на стол пачки перетянутых аптечными резиночками купюр, Симиренко ограничился десятью рублями и тремя килограммами яблок, Лева Бронштейн предъявил, как позже выяснилось, без спросу взятую у отца серебряную табакерку. Циолковский выставил в качестве единственного достояния привезенный в чемодане переносной телескоп. Грозя отказникам, клятвопреступно прячущим заначки от дальнейшей грабиловки – долговой ямой, Мойша объявил покерную кадриль, и встык с ней – «дамский преферанс» («кинг» – король, коим небезосновательно почитал себя в карточном мире). С утроенной наглостью он таскал-извлекал козыри из-под обшлагов и лацканов, из брючин и ботинок. Янкель, выйдя на сцену, поймал мухлевщика с поличным и предложил дисквалифицировать его пожизненно. Но Пинхас желал повергнуть жухалу исключительно в равной борьбе, а не формально – исключив из списка претендентов на первенство. Три кона в «шестьдесят шесть» он, вследствие своей бескомпромиссности, Мойше уступил, и его копеечная наличность (вслед за телескопом Циолковского и портсигаром Бронштейна) перекочевала к стяжателю, который, якобы давая банкротам возможность вернуть потери, потащил измочаленных безутешцев к бильярдным столам и теннисным сеткам-сетам – то есть дальнейшему выпотрашиванию.
Микола Христенко, размахивая ракеткой «Пума» (он щедро платил вызванным из Конотопа тренерам, чтоб научили делать хлесткие подачи), уступил Мойше в стиле уимблдонской эстетики: Мойша фальшиво пропел арию «Каменного гостя», и Микола, не выносивший междунотности, зажал уши – в связи с чем ему засчитали поражение. Пинхас, после беготни по корту, сумел пропихнуть в бильярдные стиснутые губы единственный шар. Мойша (от борта – в шесть воротец-мешочков) вколотил (фигурально выражаясь) всех, кто ему не покорился: Циолковский отбыл в Калугу, просадив уникальную, лично им нарисованную схему звездного неба; приемный сын сахарозаводчика Збарского правостороннесердечный Эдуард остался без наследства; Вася Панюшкин – без золоченой сабли; Пинхас продул отцовский дом. Лева Брошштейн, ущемленный утратой отцовской табакерки и пользуясь стечением зрителей, призвал собравшихся к экспроприации богатеев, за что был схвачен науськанной Мойшей полицией.
И все же Пинхас обладал преимуществом, которого был лишен Мойша – дружбой Янкеля и Эфроима. Сидя в зале, Янкель сделал набросок периодической таблицы развлечений человечества и нашел причину подвластности людей неистребимому желанию опуститься на детские четвереньки и – пусть ненадолго – стать собой естественными. Через запасные телескопные линзы Кости Циолковского Янкель продемонстрировал впавшим в непринадлежание себе тотализаторщикам не прекращающиеся уловки махинатора. Поражения Мойше желали многие: везунчиков и баловней не жалуют (принципиально и философски) – они задарма получают то, чего большинство не может добиться долгим тяжким трудом. Однако, угар борьбы за денежный привесок принуждает мечтателей союзничать с жучилами – ведь ясно же: ловкач изыщет способ опрокинуть кристально честного, в арсенале которого лишь прямота. Ее мало для победы. К тому же, если бьешься, как Пинхас, всего лишь за любовь (разве она – серьезный приз?) то смешон, а, значит, обречен.
Испереживавшись за Пинхаса, в бой вступил кузнец Эфроим. Янкель, продолжая следить за Мойшей сквозь запасные линзы телескопа Циолковского, подсвистывал и подмигиал отцу, опускал голову, жмурился, грыз спичку, что означало: «флеш», «стрит», «карэ», «флеш-рояль»... Эфроим отыграл и вернул дом Пинхасу, табакерку – Леве Бронштейну (она была выслана в Яновку), саблю – Васе, подувядшие яблоки – Симиренко, а Циолковскому – его телескопическую многосуставчатую бандуру, ее (чтоб опять не утратить) отправили товарным поездом в Калугу. Часть профуканного капитала получил сахарозаводчик Збарский, который возможно, урвал бы и свои оставшиеся миллионы, но поц Мойша сдернул с зажиленными деньгами. После его исчезновения по всему Харькову катались теннисные мячики (и к королевскому прозвищу Мойши прибавилось унизительное: «катала»), летели и переворачивались на ветру фальшивые «тузы» и «дамы». Христенко топтал их и распевал арии из «Дона Карлоса».
Кто поймет, кто постигнет и разгадает секреты женского сердца? Пинхас пришел к Ревекке. Он принес браслет, которым отблагодарила его выпущенная из клетки крыса (а ведь чуть не проиграл семейную реликвию Мойше!). В укоризненном взгляде возлюбленной читалось: «Левушка Бронштейн арестован и сослан. Длится судебный процесс над Менахином Бейлисом. Рейзель и Лайзер так и не вернулись к родной матери. А ты…»
Пинхас мысленно дозавершил упрек: «Почему не в тюрьме, не подвергся преследованиям? Валяй, напевай вслед за Христенко оперы Доницетти. Все равно так талантливо, как у Горовица, у тебя не получится. Какой ты герой? Ты – картежник!».
Пинхаса отговаривали (все, кроме Шимона, Янкеля и Эфроима): «В газетах пишут: судилище срежессировано правительством. Что изменит твое присутствие на инсценировке? С властью не потягаешься!». Урядник Воронихин (Вася Панюшкин величал его урыльником) официально показал Пинхасу увесистый кулак: «Хочешь, как Бронштейн, в Турухань?».
Но при содействии Янкеля и Эфроима удалось получить разрешение на временное проживание в Киеве.
Ночью накануне отъезда крыса положила перед Пинхасом вексель, который выкрала у Мойши, и старинный, свернутый рулончиком свиток. Пинхас развернул манускрипт и ахнул, узнав из оттиснутых на куске воловьей кожи строк: предки Готлиба были изгнаны из Испании, когда помогали Колумбу подготавливать кругосветное плавание, а прапрадеды и прапрабабки Рахили – погибли бы в Египте, если бы не устремились в пустыню. Манускрпит содержал посвящение: «Колумб открыл Америку в тот год, когда Испания изгнала евреев, Господь указал дорогу, которой надо следовать Бейлису».
Покидая Златополь, Пинхас увозил в саквояже испеченную Ревеккой неубывающую мацу. На тихой петербургской улочке он отыскал «Бюро Защиты евреев» и объявил о намерении вступиться за Бейлиса. Добровольца выпроводили, сообщив: рекруты не требуются, в рядах организации лучшие публицисты и юристы.
В Киеве адвокат Натан Лурье (до влюбленности в Ревекку Пинхас хотел наняться к нему помощником) вместо ответа на вопрос: почему не отстаивает права арестованного, скорбно потупился. За него высказался подслеповатый Наум Штаркман, к которому Пинхас (до того, как увидел Ревекку) планировал приквартироваться ради поступления в политех:
– У Натана семья, дети. И мне угрожают. У меня дочь в инвалидном кресле. Куда ее увезу?
Пинхас подумал: «Может, к лучшему, что я не женат и бездетен? Сам собою распоряжаюсь и только себе принадлежу…».
Сорокалетнего Менделя Менахина Бейлиса, неотесанного соперника Пинхаса в споре за Ревекку, обвиняли в убийстве мальчика Андрюши Ющинского. Входные билеты на судебные заседания продавались в кассах – как на недавнее карточное безумство. Пинхас, примостившись на скамье в дальнем ряду, ловил каждое произнесенное с трибуны слово.
Уголовное дело было лишь внешне запутанным. А по сути чрезвычайно внятным: Андрюша Ющинский играл с приятелем Женей Чеберяковым в прутики, Андрюша срезал более удачный, Женя пытался у него этот прутик отобрать, Андрюша, обороняясь, неосторожно пригрозил, что пожалуется в полицию: мама Жени Чеберякова торгует краденым, в ее доме воровской притон. Женя передал угрозу бандитам, вскоре Андрюша был найден мертвым. И вдруг взгромоздилось: Женя заявил, что видел, как приказчик кирпичного завода Менахин Бейлис тащил Андрюшу в конюшню.
В камеру к арестованному Бейлису поместили (под видом заключенного) дознователя, тот настрочил от имени неграмотного Менделя записку его жене, немедленно переданную начальнику тюрьмы. Из продиктованного (или измышленного?) извлекли наказ: устранить неугодных и неудобных свидетелей. Вскоре были отравлены – пирожными, принесенными полицейским! – обладатель злосчастного прутика, из-за которого все началось, Женя Чеберяков и его сестренка. А конюшня, где, по утверждению обвинителей, свершилось убийство, сгорела. Кто, если не сообщники Бейлиса расправились с детьми и произвели поджег? Зыбкие неувязки доскрутила в единую нить содержательница воровского притона Вера Чеберякова, мать отравленных сына и дочери. Она заявила: евреи предлагали ей крупную сумму – чтобы взяла вину за убийство Андрюши на себя и оговорила либо своего мужа, либо своего сожителя Мифле, он был ее соседом по дому. Публика и судьи сочувствовали несчастной (ей было от чего обезуметь!) и ужасались коварству обвиняемых. Бейлис и его постояльцы (он сдавал им комнату) опровергали свою причастность к преступлению, но им не верили – присутствующих подминал кошмар запоздало осознанных хитростей и жестокостей, творимых чужеродцами.
Приглашенные истолкователи Торы уснащали рассуждения о еврейской угрозе (и иудейской традиции подмешивать в еду православную кровь) – цитатами из царапающих непривычными названиями и устрашающего вида книг в кожаных (не человеческой ли принадлежности и заживо содранного происхождения?) переплетах: «Зогара», «Шулхан Арух», «Мишна», злоупотребляли повторением диковинных словечек: «цедик», «хасид», «резник» (!), дешифровали (применительно к святотатственным осквернениям незамысловатого славянского быта) магические числа Каббалы (13 и 666), что вызывало среди неискушенной публики испуганный ропот: «666 – знак сатаны!», «По всей России столько домов под номером 13 – ловко же внедрились кровопийцы в нашу повседневность!», «Естественно, кто, если не они порешили ученика Киево-Софийского духовного училища Андрюшу!». Витали пристегиваемые к разным контекстам резолюции Николая Первого и Александра Второго – начертанные царями поверх давних уголовных дел: «Верю, что среди евреев распространены ритуальные убийства».
Интеллигентская благовоспитанность и чопорная высокородность не позволяли адвокатам Маклакову и Зарудному с должной резкостью дать отпор потакающим самым низменным инстинктам прокурору Випперу и присяжному поверенному Шмакову, которые, не рядясь в овечьи кудельки, с открытым волчьим оскалом перечисляли: «Какие фамилии здесь звучат – Шнеерсон, Ландау, Грузенберг, Тартаковский, Эттингер, Чернобыльский... Весь цвет еврейства явился защитить единокровца!».
Пинхас побывал у Бейлиса дома (сам Менахин, которого он проведал в тюрьме, выглядел сломленным): семья обвиненного в людоедстве сторожа бедствовала.
Напросился на аудиенцию к помещику Акацатову (одному из главных инициаторов судебного преследования «детоубийц»). Очутившись в просторной гостиной, стены которой были увешаны гобеленами, а полы устланы коврами, размышлял: «Наверно, для моли не придумать лучшего рая, чем тот, в котором сейчас задыхаюсь». И еще думал: «Жизнь шиворот-навыворот и наоборот: те, кого мнят богатыми и злобными, перебиваются с хлеба на воду и нуждаются в помощи, а которые не испытывают лишений, те, утопая в коврах, злобствуют, хотя, согласно христианской морали (и простой сострадательности) должны бы ограждать слабого от тычков. Заповеди, зовущие возлюбить ближнего, не для тех, кто откупается от Бога свечкой, а дьяволу служит кочергой».
– В Иерусалимском храме без стеснения поклоняются сатане и торгуют разлитой в бутылки кровью, выточенной из христиан, смазывают ею лбы, чтоб стать угодными Христу, – говорил ему единомышленник Акацатова, студент Владимир Голубев, предпринявший самостоятельное расследование и установивший бесспорную вину евреев во всех когда-либо случавшихся в России убийствах. Этот Голубев не упускал ни единой детальки, могшей утяжелить вину Бейлиса и нарочито разжигал ненависть:
– Андрюша вызывающе принесен в жертву близ реки Почайны, в которой князь Владимир крестил Русь!
Бросало в дрожь от верняково рассчитанного провокаторства, удручала неискоренимость не желавшей усмиряться, напротив, голтелевшей вражды, снедала мизерность не умеющей доказать свою правоту истины – погребенной валом вульгарных неправд (в привлекательных обертках): увещевающий парламентер – на один зубок саблезубой пещерности! Красноречие тускнеет в созданных для его удушения кулуарах. Нужны не обволакивающие закулисные ковры, а широкое поле брани. Да, Пинхас созрел браниться.
Подгибались ноги, когда всходил на кафедру. (Иногда лишь спустя время настигает, что действовал единственно неотвратимо.)
– Ни Бейлис, ни Шнеерсон, ни Ландау, коих винят в убийстве ребенка, не были замечены в нарушении закона. А шайка, собиравшаяся у Веры Чеберяковой, хорошо известна полиции, – начал Пинхас. И воскликнул: – Бедный Андрюша! Отец бросил его, мать не любила, мальчик обращался к ней по имени-отчеству, отчим избивал… Вокруг воровали. Всеми силами Андрюша хотел вырваться из порочного круга. Если он и видел что-то светлое на протяжении недолгой жизни, то как раз у Бейлиса, который был неграмотен, но честно трудился! Постояльцы Бейлиса жалели Андрюшу, старичок Тартаковский искал его отца на Дальнем Востоке…
– Они заманивали Андрюшу! – раздалось из зала. – Чтоб замучить!
Пинхас отхлебнул воду из стакана (во рту пересохло).
– Андрюшу угнетало, что числится незаконнорожденным, и сверстники дразнят его «байстрюком»… На первом этаже дома, где он жил, находится винная лавка. В притоне Чеберяковой пьянство продолжалось с утра до вечера. Шайка вовлекла Андрюшу в подготовку ограбления Софийского собора: ведь мальчик учился в духовной семинарии и постоянно бывал на богослужениях, знал внутренне устройство храма! Сами бандиты опасались там появляться. Они расправились с Андрюшей, боясь, что он выдаст их план. Тело завернули в ковер. Труп видела в квартире Чеберяковой соседка! Потом перетащили на кирпичный завод и, чтобы избавить себя от подозрений, инсценировали ритуальное приношение – скорее всего, этому их научила полиция.
В зале зашумели. Пинхас не стушевался:
– Да, погромы проходят по распоряжению свыше. Выгодное дельце! Во время погрома в 1905 году Чеберякова неплохо нажилась на разграблении еврейских лавок: дом был полон рулонов ткани, материей растапливали печь, так много добра удалось присвоить…
Понеслись выкрики:
– По какому праву мните себя самой просвещенной, надстоящей над остальными нацией?
– Убийца-Бейлис трудился на кирпичном заводе. То есть он – каменщик. То есть – масон. Ты с ним в одной ложе? В одной упряжке?
– Вы, жиды, талантливы, потому что пьете христианскую кровь! С нею в вас переливается разум.
– Отвечай! Не подъевреивай!
Не реагируя на глупости, Пинхас стал раздавать испеченную Ревеккой мацу:
– Пробуйте. По-вашему, этот хлеб на крови?
Объяснял:
– Маца выпекается без примесей, только вода и мука, в этом секрет ее сохранности в жаркой пустыне, по которой водил наш народ Моисей. Там негде взять христианского младенца, чтоб подмешать кровь в тесто. Приходилось обходиться без столь лакомой и питательной кулинарной специи.
Шутил, не надеясь, что ирония хоть кого-нибудь проймет. Было не до улыбок. Но заветы отцов (а Готлиб завещал усмешнять даже трагическое) надо чтить.
На него сыпалось:
– Если вы, евреи, такие умные, почему не едите свинину?
– По медицинском соображениям, – отвечал он. – Чтобы не ожиреть. А еще вспомните: в кого вселились бесы, изгнанные из одержимых? В свиней!
– Значит, предоставляете болеть и пожирать дьяволов нам? В этом проявляется высокомерие вашей нации! Есть тайный, ни в Талмуде, ни в Торе, ни в одной другой рукописи не зафиксированный, из уст в уста передающийся закон – о необходимости истребления христиан.
Пинхас непритворно удивлялся:
– Вам этот закон известен? Откуда? Если правила ритуального жертвоприношения нигде не записаны, а обмениваемся мы ими тайно на тайных сходках?
– От наших лазутчиков! Вы – торгаши, продаете ваши секреты!
– И сумма названа? Которую запрашиваем? – любопытствовал Пинхас.
– Да! По сходной цене. Тридцать сребреников!
– Маловато. С тех пор, как Иуде кинули подачку, прошло почти две тысячи лет. Награда должна возрасти! – Пинхас итожил: – Ссылаясь на несуществующие, якобы по секрету выведанные предания, можно обвинить любого человека и любую национальность или религию в чем угодно! – Дал справку: – Бейлис ни на один конгресс не выезжал! Что ему там делать? Рассказывать о кирпичах, которые охраняет от расхищения? – И вновь сомневался: – Вряд ли неграмотному сторожу, вы сами признаете его малообразованность, кто-нибудь доверит доктрину всеобъемлющего значения. Зачем делиться высшим знанием с непросвещенным?
В заключение вкратце пересказал биографию премьер-министра Великобритании Дизраэли, выстроившего головокружительную карьеру, и заключил:
– Вот что могут совершить евреи на благо страны, которая ими не пренебрегает!
Но логике и догме не разминуться на узкой тропинке. Студент Голубев и помещик Акацатов взгорланили:
– Нам хватает евреев-министров! Они-то и не позволяют расследовать дело Бейлиса, выгораживают убийцу!
Над Пинхасом навис покачивающийся детина и сложил перед его лицом фигу из волосатых грязных пальцев:
– Вот тебе оправдательный приговор Бейлису! Если в «Протоколы сионских мудрецов» верят, значит, они правдивы. Нельзя верить в то, чего нет.
– Достоверная данность в том, – возразил Пинхас, – что высокопоставленный дипломат барон Моренгейм, нуждаясь в деньгах, продал немцам военную франко-русскую конвенцию. Но в предательстве обвинили еврея Дрейфуса и сослали его на Чертов остров. Подлинному предателю-барону лишь запретили въезд в Россию, он припеваючи продолжает жить в тихом По...
На следующий день по требованию Акацатова и Голубева прокурор Виппер и писец контрольной палаты, старшина присяжных Мельников, огласили подготовленные каверзы:
– На конгрессы Бейлис не ездил. А не выезжал ли он из Киева – с целью доставить разлитую в бутылочки кровь – в какие-либо ближние города, где происходт выпечка мацы? Не ездил ли к Шимону Барскому, чья дочь изготовляет редкостного вкуса пресный хлеб, который нам предложено было отведать? Не из страха ли перед разоблачением отсутствуют здесь Шимон и его дочь?
Обеспокоенный таким поворотом, адвокат Лурье сказал Пинхасу:
– Навлечешь беду на всех!
И другие заступники Бейлиса упрекали смельчака: маца – не повседневная пища, наделять ею (пусть даже к ней прикасались пальчики возлюбленной) неиудеев не следует.
Предчувствие не обмануло осторожничающих. Еще через два дня в суд были доставлены черноволосая девочка по имени Клавдия, ее брат Филипп, а также Василий Панюшкин. Он подтвердил:
– Мацу в доме Шимона пекут. – Однако до оговора не опустился. – Никогда не видел, а я частенько присутствовал при выпечке, чтоб добавляли вместо воды сиропы. Ревекка печет ее превосходно!
Рассказывая о приезде Бейлиса в Златополь, Вася сообщил:
– Он привозил не бутылочки, а глиняные горшки для цветов. И бросал охапки лютиков в окно дамам. – Вася заявил: – Убийство произошло в те дни, когда мы с Бейлисом вместе работали в конюшне Шимона. Убить он бы не спроворился!
Зато Клавдия и Филипп дружно донесли, что играли вместе с Андрюшей на улице и видели, как Бейлис потащил его в заброшенное здание завода.
Пинхас подошел к детям, стал расспрашивать. И выяснил: с Андрюшей они не встречались никогда. Брата и сестру привезли с далекого лесного кордона и научили говорить то, что они теперь повторяли.
– Ненавижу евреев! – сказала девочка.
– Они трусы и убийцы! – подхватил мальчик.
Стоило ли открывать обманутым правду об их родной матери-еврейке? Это могло нанести травму неокрепшим душам. Пинхас промолчал. И отправил Шимону телеграмму с просьбой на процесс не приезжать. Хотя участие мудреца могло в корне изменить ход дознания.
Во время следующего своего восшествия на трибуну Пинхас поразил слушателей глубочайшей эрудированностью (не прошли впустую уроки Шимона):
– Иудаизм может существовать без христианства. А христианства без иудаизма быть не может. Новый завет опирается на Ветхозаветные притчи. Крестоносцы недаром стремились в Иерусалим, они жаждали слияния с первоосновой и на этом фундаменте собирались возводить здание будущей веры.
Разъяснял:
– Написано: «Спасутся евреи и хорошие». А кто такие «хорошие»? Те, кто не обижают евреев. Только глупцы притесняют нас. И от этого терпят убытки. Недальновидные государства избавляются от магендовидцев, забывая слова Бога: «Спасение миру придет от иудеев». Господь ищет пути к каждому – через иудаизм, Аллаха, Христа. Лишь безумцы выступают против какой-либо испостаси единого Бога!
Пинхаса зашикивали:
– Спасутся евреи и хорошие? Значит, евреи – нехорошие!
– Вам все позволено! Даже убивать! Вы и на этот раз выкрутитесь! Останетесь безнаказанными! Умеете устроиться при всех режимах!
– Не подъевреивай!
Рты ненавистников эпилептически пенились, взоры туманила бесноватая пелена.
– Разворошим ваш заповедник!
Пинхас был терпелив:
– Надо приспосабливаться. Друг к другу. Иначе будут войны. Евреи – дрожжи, закваска! Но и без опары и теста в испечении совместного проживания не обойтись!
Увы, тем, чьи пращуры не скитались и не искали прибежище где ни попадя, а жили оседло-непрогоняемо, трудно примерить удел бездомного изгнанничества.
– Куда вам воевать? Вы – трусы! Вот и бежите ото всюду. Как крысы с изгрызанного ими корабля! – дразнили его.
– Вовсе нет. Евреи воевали в первых киевских дружинах против половцев…
Между заседаниями он давал интервью репортерам:
– Евреи безнаказанны? Да нам ставят любое лыко в строку! Взять хотя бы этот процесс… Адвокатам Бейлиса не позволяют высказаться. Прокурор обрывает их на полуслове. Зато обвинители говорят сколь угодно долго.
И не только ораторству предавался Пинхас. Отправил лист мацы на экспертизу в Петербургский университет и попросил Любовь Дмитириевну Менделееву курировать это лабораторное исследование, получил заверенный подписями известнейших ученых вердикт: ни йоты крови в тесте не обнаружено! Результат позволил заявить:
– Все нации безбоязненно могут включить мацу в свой рацион. Гарантии кашерности распространятся на все народы.
После столь широковещательного призыва осмелевший Лурье неожиданно для себя пошутил:
– Маца для целого мира? Неплохо! Но где нацедим столько крови? Не напасешься ее пускать!
А престарелый Штаркман сформулировал то, что испытывали многие:
– Рядом с отважным чувствуешь отвагу. Ты, Пинхас, подаешь пример бесстрашия.
Число сторонников Пинхаса росло. Он сделался заметной, обсуждаемой фигурой. Ему аплодировали, когда появлялся на улице. Его прежние и свежие речи широко перепечатывались. А рассказ о том, как замесить мацу на Пейсах – без использования сливочного масла – вышел в виде подарочного альбома и был раскуплен владельцами хлебопекарен, производившими бездрожжевое тесто. Пинхас написал предисловие к этой книге.
Его доклады, исторические экскурсы, короткие сообщения становились все более аргументированными и отточенными. Немалую роль сыграло то, что скрупулезно и тщательно готовился к выступлению на сионистском конгрессе. (Никакая выполненная работа не пропадает!). Роняя весомые фразы, Пинхас видел себя сражающимся с фараонами, бредущим по безводной пустыне, снаряжающим Колумба в путешествие, а то и стоящим на трибуне лондонской Палаты Общин. Но вновь и вновь его отбрасывали в неандертальские века – те, кто находился среди комфортабельных домов и носил европейские одежды. Погружаясь в сводки новостей, он не мог отрешиться от картин прошлого: покидая Египет, горстка за горсткой уходили далекие предки, чтобы рассеяться по миру и, в неведомых странах, то пресмыкаясь и угодничая, дабы сохранить веру и детей, то поднимая мятежи, дабы отстоять независимость, созидали величие своего народа…
Ревекка диву давалась: откуда у невзрачного ухажера столь глубокие познания? Ей льстила обретенная Пинхасом популярность. И было невдомек: Пинхаса окрыляет любовь.
Приходя в гостиницу после трудного дня, Пинхас подкреплялся мацой, испеченной Ревеккой, подолгу смотрел на фотографию красавицы, и силы возвращались к нему. Ах, любовь… Ах, маца, чудо-хлеб, продолжающий спасать! Золотистые тонкие листики не утрачивали волшебной магии! Ночами Пинхас едва успевал отвечать на письма, которые ему присылали писатели, артисты, ученые. (Его звал в гости сам Шолом Алейхем!). А утром мысли сами слетались в голову и упархивали с языка.
С Пинхасом солидаризировался академик Бехтерев, он выдвинул версию: Андрюша убит кем-то, находившимся в состоянии аффекта, отсюда большое количество ран, в частности, на ягодицах. Из таких поранений не может вытечь много крови.
И лейб-медик Павлов вступился за Менахина. Он прибыл на процесс, чтобы выразить простые чувства:
– Я не криминалист. И не эксперт в области иудаизма. Я, как и работавший по субботам Бейлис, скорее нерелигиозен. Хотя отдаю дань уважения моим православным пращурам. И тем шести миллионам евреев в России, что чтут закон Моисея и посещают синагоги. Хочу задать всем, а не только судебным заседателям, вопрос: Бейлис настолько глуп и несообразителен, что на глазах детворы хватает Андрюшу и тащит в заводское помещение, убивает и не заботится замести следы, а обрекает себя на уголовное дознание? Уж как-нибудь мог предвидеть: свидетели не станут молчать, вот и потрудился бы увезти тело – зачем выставлять причастность к преступлению напоказ?
Ученого прервал один из присяжных:
– Не замел следы, потому что нагло демонстрирует пренебрежение к законам.
Павлов возобновил речь:
– Итак, подозреваемый не избавился от мертвого тела… Более того, зачем-то заботливо разукрасил труп. Чтоб дать понять: совершено именно ритуальное, а не случайное убийство? Либо убийца ненормален, вот и устроил отвратительный маскарад, либо это намеренная провокация. У полуграмотного зашуганного пролетария-бедняка вряд ли хватит фантазии на причуды. И еще: кого похитил Бейлис? Андрюшу, с которым дружили его сыновья... Он разве не понимал: если его дети общаются с Андрюшей, то следствие рано или поздно на него набредет? Планируй он преступление, которое ему вменяют, и поехал бы на другой конец города, нашел бы жертву там. Какая разница, из кого цедить кровь? Выберите что-то одно: евреи хитры и коварны или тупоголовы и пожирают младенцев на глазах у их родителей. Я убежден: Андрюшу умертвили опытные преступники. И обставили убийство таким образом, чтоб свалить с себя подозрения. Для дополнительной безопасности бандиты из притона Чеберяковой срочно вступили в «Союз русского народа». Ведь Союзу покровителствует царь… Почему царь покровительствует мракобесам? Ох, уж эти потуги нерусского выглядеть более русским, чем исконные русские…
После дебатов к Пинхасу подошел юноша с лоснящимися усиками, которого Пинхас, видя его в зале, принял за еврея. Энергичный смуглый (как выяснилось, кавказец) повел странную беседу:
– С первобытных веков человечество живет стаями, этот уклад нерушим, как в шахматах: переход из белых в черные не подразумевается. Ющинский предал банду, в которой состоял, и понес заслуженную кару. Бехтерв и Павлов пребывают в православной общности, а хотят услужить евреям! Бехтерев, если не прекратит ставить диагнозы во всеуслышанье, подвергнется той же участи, что Ющинский.
– Я с воровскими законами не знаком, – пожал плечами Пинхас. И спросил: – А кто вы?
– Моя фамилия Джугашвили, – усач пригладил густую жгуче-черную волнистую шевелюру. Его бугристое лицо было жестоко изрыто оспой. – Я – налетчик, экспроприатор излишней собственности и грабитель банков. Всяких Бехтеревых, Пироговых, Павловых вместе с их рефлектирующими собаками и прочей заумью изничтожу. Устрою «дело врачей» и загноблю! Не нужны опыты над паршивыми псами, двух классов семинарии достаточно, чтобы ставить эксперименты на человеческих массах! Требуется не изучение желудочного сока и выделений слюнных желез, а квалифицированные патологоанатомы для консервации уникальных, шестипалых, к примеру, представителей человеческого рода. В целях последующего нетленного мумифицирования! Пирогов уже начал себя бальзамировать. Чтоб потом оживиться! Но бессмертие ему не по чину. Столько мумий, сколько Египту, для России излишне, от многих мумий много печалей: у семи фараоновых нянек дитя государственного порядка безглазое, вот и упустило евреев в пустыню без контрибуции…
– Какая-то ахинея… Я полагал: фамилии, оканчивающиеся на «швили», носят грузинские евреи, – ошарашенно пробормотал Пинхас.
Джугашвили предъявил газету, где Пинхаса полоскал на чем свет стоит приславший статью из сибирской сылки Лев Бронштейн. Он называл усилия самодеятельного адвоката «действием без надежды на успех».
– Умник Бронштейн-Троцкий тоже хочет стать мумией и полеживать в Кремле, не бывать этому! – истерически взвизгнул Джугашвили. – Настигну и убью хоть в Мексике, хоть в Аргентине! Размозжу – по законам ацтеков! России хватит двух прекрасных спящих красавцев в одной мраморной опочивальне. В мавзолее. Их будет лобзать любящий народ. И поцелуями – воскрешать!
Вслед за Бронштейном на Пинхаса обрушился депутат Государственной Думы (и издатель черносотенного листка «Киевлянин») Василий Шульгин: «Пигмей, от горшка два вершка, встает на стул, чтоб голова возвышалась над трибуной!».
Зато лидер конституционно-демократической партии, известный юрист Владимир Дмитриевич Набоков, чьи публикации, осуждавшие Кишеневский погром, помнились многим, предрек: «Этот юный представитель древней гонимой нации изменит представление о ней!». У Владимира Дмитриевича был сын – тоже Владимир, начинающий литератор, высоченного роста нескладный гигант. Приехав в Киев, он подробно расспрашивал Пинхаса о последних днях Льва Толстого, свидетелем которых Пинхас невольно сделался. Молодого человека интересовало: в каком жанре Толстой намеревался перелопатить «Анну Каренину»? Поэтически и шахматно одаренный Владимир Владимирович мечтал: «Исполню рокировку аля Лев Николаевич-Ласкер-Алехин, создам роман «Лолита!».
Появившийся на процессе под видом японского самурая Григорий Распутин сбрил бороду и стал неузнаваем. Стискивая в кулаке отсутствующую козлиную растительность, Григорий Ефимович говорил:
– Журналистишка Шульгин готовится принять из рук царя акт отречения от престола, журналистишка Нилус, строча небылицы, способствует этому отречению, а ты, Пинхас, бьешься за то, чтобы все мы не захлебнулись в заушательстве! Если не победишь на этом судилище, грянет долгая эпоха доносчиков и напраслин. С каждым случится то, что произошло с Бейлисом и Андрюшей Ющинским, с братом и сестрой Чеберяковыми. То, что грозит детям Бейлиса – если Менахина сошлют на каторгу, а его жену убьют в очередном погроме, грозит нашим детям: их отправят в приют, осиротят...
Распутин возвестил: сын Пинхаса Александр окажется в застенке. Дочь Лия выучится на юриста, чтобы спасти брата. Распутин сожалел, что Лия еще не родилась и не может присутствовать на процессе, где ее отец произносит блестящие выступления защиту Бейлиса – это многое бы дало девочке как будущему адвокату.
Пинхас спросил:
– Почему маскируетесь под японца, Григорий Ефимович?
Распутин ответил:
– Тебе выпадет поехать в Китай и защищать эту страну от японского вторжения, поучаствуешь в становлении Наполеона, возрождающегося в Ден Сяопине.
Распутин уведомил:
– Набоков-старший может быть застрелен монархистом-черносотенцем. Тремя пулями в спину, черносотенцы обычно убивают в спину.
Григорий Ефимович мараковал над отсрочиванием (а то и полнейшей отменой) этого преступления.
Указал он Пинхасу и на сногсшибательную похожесть огульного обвинения против Бейлиса и совершенного князем Юсуповым реального преступления: детей Чеберяковых и Григория Распутина (то бишь его двойника – Арона Симановича) умерщвляли пирожными (а не мацой!). Отравление сладостями – привычная практика и тактика кремово-сливочных слоев тортово-бисквитного клана, беспощадно устраняющего неугодных ему разоблачителей.
Увеличительные стекла подзорной небесно-обсерваторской трубы позволила Антону увидеть: у Пинхаса побелели губы, когда он оглашал с трибуны это обличение. Зубы стучали о стакан при отхлебывании воды. Сквозь судилищное видение проступали контуры предшествующих событий: подручные Нилуса укладывают безжизненное тело мальчика в пещере на камень, украшают бледное чело школьными тетрадками…
Часть слушателей, удрученных навеянной Пинхасом ретроспективой, подавленно молчала. Другая часть освистала оратора.
– Не подъевреивай!
Пинхаса стащили с трибуны. Но он проповедовал, обозревая прошлое и (благодаря Шимону и Распутину) предвидя будущее:
– Евреев упрекают, что пытаются добиться оправдания Бейлиса всеми средствами. А что остается, если единоборствуем с маховиком, который дробит честных граждан, потому что воры ему милее? – Пинхас набрал в грудь воздух и выложил то, о чем давно собирался, но не мог заставить себя сказать: – Миф о еврейском заговоре крепнет по прихоти тех, кто убивает детей, проливает кровавые реки и планирует захват мира, но приписывает свои злодеяния невиноватым!
Под влиянием его безоглядного заявления прибывший из Петербурга чиновник министерства особых поручений (с заданием разоблачить вредоносный иудаизм) нашел в себе твердость признать: еврейская религия запрещает убийства и не позволяет использовать кровь в пищу. Этот поначалу робкий человек солидаризировался с позицией сторонников Бейлиса:
– Недавно в конюшне Семеновского полка обнаружили тело замученного мальчика. До суда не дошло. Потому что в преступлении замешан родственник высокопоставленного чиновника Воейкова! Странно, что не объявлено: погибший ребенок – тоже жертва еврейского ритуала!
Накануне освобождения Бейлиса из-под стражи в дверь арендованной Пинхасом комнатушки (куда ему пришлось съехать из гостиницы по причине дороговизны казенного проживания) постучал скромно одетый не то селянин, не то горожанин, и представился:
– Я – житель поселка Каменское… Работаю на металлургическом заводе… Зовут меня Илья Яковлевич Брежнев… Про вас пишут: вы – наследник мудрости Шимона Барского… Хочу потолковать о судьбе моего сына Лени.
Пинхасу льстило, что к нему приезжают и обращаются за советом, как недавно приезжали к старому Шимону. Он напоил гостя чаем. Угостил мацой. Узнав, что отпрыску, о котором хлопочет отец, нет и десяти лет, улыбнулся:
– Не рано ли беспокоитесь? Пусть бегает, играет.
Мастеровой остался серьезен:
– Учусь у евреев, надо все предусматривать заранее. А мы, русские и украинцы, спохватываемся в последний момент. Знаете пословицу: «Еврей приходит к врачу за год до болезни, а русский – за час до смерти»? Пословицы мы мастаки придумывать: «Делу – время, потехе – час», «Подальше положишь – поближе возьмешь», «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», «Готовь сани летом, а телегу зимой», а своим заповедям не следуем. Бездельничаем больше, чем трудимся, подчиняемся указке глупых начальников, сани и телеги не ремонтируем… Пусть мой Леня пока резвится на берегу Днепра. Но если заранее не озаботиться его судьбой, можно мальчика упустить. Дети должны жить лучше родителей. Мой отец пришел в прокатный цех из деревни, я его в знаниях и умении превзошел. А для Лени хочу еще лучшей доли. Я недаром назвал его Леонидом. Это имя означает: «подобный льву». Как сделать, чтобы стал подобен Льву Толстому, оказался в столице – Киеве, Петербурге, Москве? Чтоб по вечерам ходил в театры…
– За финансовой помощью лучше обращаться к сахарозаводчику Збарскому, хотя и он нынче не при деньгах, – посожалел Пинхас.
Илья Яковлевич ответил с достоинством:
– Деньги у меня имеются: вот-вот буду назначен фабрикатором, стану давать подчиненным задания, распределять заказы по цехам, отгружать готовую продукцию… Лене необходим правильный взгляд на жизнь. То, как вы защитили несчастного Бейлиса, произвело на всех большое впечатление. И наглядно показало: евреи тянут общество вперед, они – локомотив Истории. Поклеп, возводимый на Бейлиса – позор! Не хочу, чтоб ребенок вырос юдофобом. Пусть станет филосемитом! Возьмите его в воспитуемые?
– Конечно, – согласился Пинхас.
Илья Яковлевич еще сильнее смутился:
– В жизни мужчины многое зависит от жены… В семье жена – тот же локомотив, муж при ней – кочегар.
С этим Пинхас, к прискорбию, согласился.
Произнося следующую тираду, Илья Яковлевич ерзал на стуле, как ерзают неопытные, просящие за негодный товар высокую цену спекулянты.
– О мужчинах никто так хорошо не заботится, как еврейские жены. Получается – двойной локомотив! Знаю, юный литератор Набоков, который дружен с вами, намечает жениться на еврейке Вере Слоним. Продуманный брак сделает его крупнейшей величиной в литературном мире. Хочу, чтоб мой Леня женился аналогично. Может, выбьется в писатели, создаст и издаст какой-нибудь трехтомник.
Пинхас обнадежил просителя:
– В бумагах Шимона я наткнулся на запись о том, что скоро большинство руководителей нашей страны будут женаты на еврейках. Перечислены Молотов, Ворошилов, Бухарин… А уж литераторы будут сплошь: Мандельштамы, Бродские, Пастернаки, Цветаевы, Пильняки, Бабели… Руководить мировой экономикой станут Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы… Станут известны и фигуры помельче: Троцкий, Каменев и Зиновьев… Но эти останутся на доморощенном местечковом уровне. Превзойдет их грузин… – Пинхас запнулся. – Джугашвили. Где-то я слышал эту фамилию… Причем недавно, – силясь вспомнить, завершил монолог Пинхас. – Если хотите, чтоб ваш Леня преуспел и посещал московские театры, болел за столичный «Спартак» или ЦСКА, проконсультируйтесь с австрийским доктором Фрейдом.
Илья Яковлевич замахал натруженными руками:
– Не надо австрияков! Обойдемся своими евреями!
Пинхас расчувствовался, крепко пожал костистую ладонь работящего мастерового. И предложил ему мацу в дорогу.
Илья Яковлевич отвел ставший виноватым, как у нашкодившей собачонки, взгляд:
– Я не верю в наветы. Дескать подмешиваете православную кровь. Но есть мацу с тех пор, как услышал о Бейлисе, избегаю. Только из уважения к вам и отведал ломтик… Все же какой-то специфический привкус ощутим.
На том и распрощались.
Вскоре малолетний Леня стал помогать Пинхасу перебеливать бумаги. Пинхас обучал его идишу и древнегреческому.
Впоследствии Леня писал наставнику, что окончил в Курске землеустроительно-мелиоративный техникум, работает на Урале и счастлив, поскольку любит свою профессию, а главное, обожает жену, с которой познакомился тоже в Курске, где она выучилась на медика. «Очень важно, – откровенничал Леонид, – что жена следит за моим здоровьем, ведь в кондуите Шимона сказано: в зрелые годы мне грозят тахикардия, аритмия и сосудистая дистония». Сообщал: избранницу зовут Виктория, она – из семьи выкрестов. «Это не совсем то, что хотел мой папа, но ведь от принятия другой веры еврейская кипучая кровь не меняет химических свойств… Кстати, как крупного хозяйственника, меня волнует: слишком много сцеженной у людей крови расходуется впустую – на медицинские анализы и при случайных порезах, драгоценные милиграммы можно задействовать в пищу, на эту догадку натолкнули научные изыскания видного румынского экономиста, профессора Трансильванской школы диетологии доктора Носферату, являвшегося руководителем студенческих курсовых работ моего друга Николае Чаушеску и некоего Джоржа Сороса. Р. S. Виктория балует меня мацой во время шабатных трапез!».
Социалистическое строительство позвало Леонида Ильича в Свердловск, в земельное управление, оно располагалось в старинном особняке некоего купца Ипатьева. Потом Брежнев служил в армии в Чите. И вспахивал казахстаские целинные земли – тот их окаем, где некогда располагался «копай-лагерь», погубивший отца Евфросиньи и едва не убивший ее саму, ее маму и бабушку.
Пинхас хранил автографы своего выученика. И не напрасно. Они обеспечили ему встречу с генеральным секретарем компартии Советского Союза Л. И. Брежневым. Во время той беседы в Кремле Пинхас убедил лидера СССР не высылать евреев в Биробиджан.
Ну, а в Златополь победитель Виппера и Шмакова вернулся, овеянный почетом и славой. Шимон расцеловал его, поднявшись из кресла на колесиках, в котором проводил теперь больше времени, чем на ногах. Любавический ребе обещал похлопотать о назначении Пинхаса бургомистром Голанских высот и награждении Бейлиса орденами Бен Гуриона и Моше Даяна. Выпущенный на свободу и приехавший вместе со своим спасителем сторож держался браво (особенно перед Ревеккой), но покашливал и прихрамывал: здоровье было подорвано, нервы истрепаны, силы истощены. Ища успокоение, Бейлис ходил в поля и луга, собирал целебные травы, готовил настои и отвары (по рецептам Готлиба Фальковского) и принимал по столовой ложке перед едой. Говорил Шимону, что хочет изобрести лекарство от всех болезней и затмить великого фармаколога Парацельса:
– Парацельс слишком буквально воспринимал латинское выражение «Лечи подобное подобным». Да, уши слона и человека похожи на лопухи, но из этого не следует, что глухоту можно превозмочь с помощью подорожника. А зрение – при помощи вишневого сока, если зрачки карие, и при помощи березового – если серые или голубые.
Бейлис использовал при составлении снадобий полынь, семечки симиренковских яблок и окисленные гвозди, а также (по настоянию Шимона) абрикосовую мякоть. Во время выуживания из пруда стеблей кувшинок, он спас пришедшего ловить налимов, да сверзившегося с обрыва и начавшего тонуть подпаска Сережу Тарахтуна. Отпоил пастушка валерьяной. Привел к Шимону.
Но и заботу о Тарахтуне поставили бывшему подсудимому в вину: неотступно следивший за Менахином (и повторявший: «Я не сторож убийце своему») журналист Нилус написал в очередном пасквиле: «Оправданный чудо-юдо-людоед продолжает охоту на детей – с целью выцеживания крови. Если еще одного ребенка похитят, у Бейлиса будет алиби – весь день провел в лесу, собирая травы».
После этой публикации намеревавшийся открыть травяную аптеку на Крещатике Бейлис принял решение уехать – в страну, победившую рабство. Звал Пинхаса в компаньоны:
–В Америке широчайшее поле возможностей. А тут сплошные беды. Увожу с собой рецепт целебного напитка для дам. Разбогатеем.
Пинхас отказался. Его одолевала мысль: найти отобранных у родной матери детишек – Лейзера и Райзель. Бейлис готов был взять подросших детишек за океан.
Бейлис и Пинхас предприняли розыск – и нашли Лайзера и Рейзель. Ни брат, ни сестра не захотели разговаривать с явившимися к ним евреями и заявили: русским детям не к лицу якшаться с иудеями-кровопийцами.
СКРЫТЫЙ РАЙ
Схожие с бейлисовским небесные разбирательства множились, разветвлялись, наслаивались и опять сплетались, разукрупнялись, вскипали – как пена на разогретом молоке, и оседали (возмущение оборачивалось пшиком), замедляли ход и убыстренно катились к развязке, но не кончались, а втягивали в бурно-размеренные рукава и русла новых участников, Антон разрывался меж казуистическими тяжбами, не успевал знакомиться с нескончаемой писаниной делопроизводителей, метался по рассредоточенным в нескольких залах (коллегиях, заседаниях) слушаниям.
Безутешно плачущая девочка умоляла о снисхождении: она, перед хирургической операцией, по требованию врачей сняла колечки, браслетик и доставшийся от бабушки нательный крестик; дешевую бижутерию положила в тумбочку, а крестик спрятала в чехольчик-капсулу, предназначенную для легоньких синтетических бахил – их раздавали посетителям клиники, чтоб натянули поверх обуви и не пачкали покрытый линолеумом чисто вымытый швабрами пол; после наркоза растеряха крепко уснула и забыла о крестике, выбросила вместе с пластмассовым футляром, спохватилась через несколько дней.
– Обойтись столь безответственно с крестом животворящим! – гремел обличитель-прокурор. – Крест – символ принадлежания Богу! Хорошо, нашлась старуха, одолжила тебе свой!
– Что толку, если я все равно вскоре умерла! – рыдала девочка.
– Не тебе решать: сколько жить и когда умирать!
Антон вступился:
– Она нечаянно! Кто станет выбрасывать крестик намеренно?!
– За «нечаянно» бьют отчаянно! – передразнил противным тоненюсеньким голоском школьника-ябеды немолодой судья. И впился в Антона немигающими белесыми очами. – Ты кто такой?
Антон стушевался, не зная, как обозначить свой статус.
Возле девочки описывали акульи круги два отвратительных типа: высокий и низенький, они предлагали раздобыть оправдательный документ – об отрицательном побочном свойстве наркоза, ослабляющем память, взамен просили пойти в соседнюю аудиторию и свидетельствовать в их пользу.
– Ты – невинная душа, тебе поверят. Замолви за нас словечко!
– Я впервые вас вижу, – страшилась девочка.
– Этого достаточно. Посмотри на нас: разве мы способны на плохое? Вот и скажи: мы – хорошие. А без справки тебя засудят!
Антон отогнал барыг. Но девочка побежала за ними.
– Постойте! Я согласна!
Разоблачительные экзекуции, подразумевавшие очищение, не содержали умягчающего умащивания, напротив, театрально и показательно, при свете ярких прозекторских ламп, расковыривали гнойники, провоцировали экземы, растравливали раны, усугубляли воспаления, вместо исцеляюще-заживленческих процедур кромсали швы и лепестки бинтов – заржавленно-притупившимися (а то и нарочно зазубренными) скальпелями, ланцетами, пинцетами; публичное выдавливание фурункулов и удаление цинготных зубов грозило сепсисом, ампутация гангренозных протухлостей и коновальское извлечение из утроб мертворожденных синюшных зародышей граничило с садизмом, наносило дополнительные травмы и упрочивало увечья (а не утишало их). Антону, если без сопровождавшего дедушки и вне пригляда Явился-не-Запылился оказывался в гуще амбулаторно-потрошительской живодерни, не удавалось (ни юридически, ни на глазок) определить степень необходимости чреватых страданиями вскрытий. Сложно было оценить и масштабы инфекционной опасности, исходившей из отверстых моргов, от наворота распространявших заразу, вроде бы незначительных, но на поверку выяснялось – крайне важных отсечений.
Прокурор с лихо вздернутым носом и носорожьи торчащим чубом допытывался у задиры с разбитым лицом, боксерски зажав его на ринге провонявшего краской (после недавнего ремонта?) тесного кабинета:
– Зачем влез в потасовку? Ведь не драчун.
– Заступился за брата. На него напали хулиганы…
Курносый носитель мантии тряс подшивкой бумаг:
– Задокументировано: твой брат – чемпион по тхэквондо, имеет черный пояс. Мог сам за себя постоять. Ты – хиляк и дохляк…
– С брата взяли обязательство… Когда поступал в спортивную секцию. Не ввязываться в уличные бои. Чтоб никого не зашиб. Он сдержал слово. Но я не удержался, видя, как его волтузят…
Адвокат-рефери голосил:
– Хочу подчеркнуть исключительную порядочность обоих братьев, мой подзащитный достоен прощения!
– Котла с кипящим вазилином, вот чего он достоен, – полагал курносый носитель официального начала.
Неопрятного вида сморчок с клочковатой растительностью на подбородке, которую нещадно теребил, устал отражать наскоки.
– Вспоминай, вспоминай! – требовал прокурор. – Празднество твоего юбилея. На столе бутылки с вином. Качество ниже среднего. И совсем дрянь. Среди гостей неизлечимо больной. Ты потчуешь его самым скверным и дешевым. Твои мысли доподлинно известны: «Все равно ему умирать, зачем расходоваться?». Вместо того, чтобы уважить угасавшего, испортил его последние мгновения! Именно в связи с винным отравлением ему сделалось хуже…
Пострадавший – жалкого вида изможденный доходяга – ныл, прикладывая к глазам несвежий носовой платок:
– Не знал, что так гадко ко мне относишься. Думал, мы друзья.
Отравитель веретеном вертелся внутри одежды, которая была ему велика, бегал глазками, молитвенно возводил их к потолку, а сообразив: дела плохи, избрал тактику отрицания-несознания – обличения скатывались с него, как с гуся вода, отскакивали, как от стенки горох. (Проявления неискренности особенно неприятны, нет, неприемлемы в божественных пенатах! Но почему порочное, наихудшее, просквозив облачный фильтр, не отсеивалось, не отмирало?)
Шпыняли подростка за то, что, найдя в церкви на полу денежную банкноту, присвоил ее, а не опустил в кружку пожертвований:
– Знал: поступаешь греховно, но отнял деньги у Господа!
– Мне нужны были деньги! Позарез! – хныкал паренек.
– Для каких надобностей?
– На мороженое!
Судьи хохотали:
– Что ж, отправим тебя в Вечную Зиму. Там вдоволь льда!
И опять Антон хотел вступиться: подсудимый молод, неразумен. И опять синклит обвинителей осадил увещевателя. Качая головами, ангелы в сияющих нимбах, ссылаясь на вопиющие недостачи и нехватку средств (согласно бухгалтерской ведомости) судачили: воришка мягко отделался, в заключительном слове он обмолвился – деньги нужны «позарез», вот и надо было его зарезать.
Та же счетная комиссия приперла к позорной стене взрослого прихожанина – да столь плотно, что невидимая эта плоскость показалась Антону расстрельной (хотя ничего вопиющего проступочник не совершил):
– Стоял в церкви и думал не о Боге, а о своей дырявой майке!
Обвиняемый не отрицал:
– Я из церкви шел на прием к врачу. И заранее стыдился, что врач увидит дырку.
– А надеть не рваную не мог? Такое в голову не пришло?
– Не было денег на новую… Прием у врача дорогущий. Я предпочел пожертвовать на нужды храма последний рубль.
– Тогда другой коленкор, – повеселели члены бригады. – Тогда ты прощен! Но заштопать дырку было в твоих силах!
Антон спросил дедушку:
– Каким образом становятся известны не только поступки, но и мысли?
Дедушка, не тратя слов, повел внука в Промзону и, посреди дымивших трубами заводских строений и лязгающего грохота сборочных цехов рассказал:
– Небезызвестный тебе Циолковский развинтил хранившиеся в Копилке Господа трость Шимона и логарифмическую подзорную трубу Распутина и сконструировал всевидящее око. Мойша Хейфец, совместно с изобретателем радио Поповым и Ароном Симановичем, профинансировали серийное производство улавливателей мысли… Полезность таких устройств несомненна, ибо небесный суд приравнивает мысль к практическому деянию. Прибор не обманешь, он обнажит и мухлеж запутывателей расследования, и заблуждения искренне ошибающихся негрешников.
По мнению Антона, разоблачительные сеансы не опозитивливали моральных плюгавцев: донося на себя (и на других), они будто раскланивались перед распекателями на авансцене, бравировали непревзойденностью и абсолютной величиной совершенных мерзостей, излагали «на бис», сколь изощренно сживали со свету родственников при дележе наследства, выплескивались из выгребного нутра, что, проведя в брачном единстве долгие годы, ненавидели тех, с кем зачинали детей – и росли в собственном возвеличивании (и в глазах зрителей), расцветали махровее, Антон, предпочел бы этой кичливой ярмарке гнойных отслоений – щадящее умолчание. Но дедушка разъяснял:
– В человеческой табели о рангах котируется не только положительная, но и отрицательная шкала предпочтений! Отрицательные мерзавцы – в извращенном измерении – тоже герои!
Это совпадало с мечтаниями мамы, чаявшей для сыночка Антоши адвокатской стези и амплуа защитника преследуемых (которому дано растолковывать обвиняемым их неправоту).
В ином ключе, чем небесные инквизиторы, отнесся бы Анттон к старушке – просившей Господа (в молодые годы) уменьшить тяготы: не удавалось прокормить детишек, мужья уходили и ничем не помогали. Жалобщицу песочли:
– Навьючила на Всевышнего, предельно занятого, раздобывание для твоих детей ячневой крупы!
А надо было мягко укорить: «На каждого рожденного Бог дает необходимое».
Спасло недотумкальщицу лишь то, что перед смертью повторяла: «Похороните меня с детишками». Над ней смилостивились, признав раннюю смерть детей достаточным искуплением.
За похожее платился мужчина в дорогом костюме, поначалу державшийся напористо, затем сникший.
– Вы дали врачам распоряжение: умертвить ребенка. Кто позволил брать на себя инициативу? – вопрошал ангел-заседатель, нервный тик (или усталость? или то и другое?) кривил его щеку, лоб был изборожден глубокими страдальческими морщинами.
– Врачи сказали: выбирайте – младенец или жена? Были трудные роды, – рисовал ситуацию обвиняемый – Я не хотел терять жену. А ребенка я не знал. Не успел к нему привыкнуть. Я переживаю, поверьте. Но я подумал: она родит еще…
– Не твое дело – решать! Решения принимают в других инстанциях! Приговариваем к вечным мукам: за самоуправство!
На нем защелкнули терновые наручники из ветвей шиповника.
В соседнем зале грубиянка-дочь слезно выпрашивала прощение у старенькой матери, а та говорила:
– Я тебя предупреждала, что умру. И исправить твое хамство станет невозможно. Но ты продолжала меня ухайдокивать!
Досталось отцу мальчика, чью жизнь он загубил:
– Должен был сделать операцию на сердце! Шунтирование!
– Сын готовился поступать в институт. Оставалось всего-ничего до его студенчества, я не хотел его и нервировать. Я делал, как лучше! – доказывал отец.
Судей бесила его непрошибаемость:
– Получилось – хуже! В самый неподходящий момент дал дуба! Сорвал подготовку мальчика к экзаменам! Операция сохранила бы твою жизнь. Ты допустил непрощаемое!
Прямо на очной ставке произошла встреча сына с матерью, которая не знала: сын отказался за ней, дряхлой и плохо соображавшей, ухаживать, отдал в приют. Теперь она пыталась облегчить участь слабохарактерного равнодушца (судейская формулировка была: «не выдержал испытания материнской болезнью», но и других недоимок за ним хватало), упрашивала принять во внимание бедственное положение, в котором она и сын находились из-за ее болезни, однако, ходатайство отклонили.
Сестры-близняшки, пока были живы, оставались неразлучны, а после внезапной смерти первой, вторая наглоталась таблеток. Даже на судебном процессе самоубийце и скончавшейся по правилам покойницам не позволили находиться друг подле друга.
– Мы вместе родились, значит, и окончить земной срок должны были одновременно! – стенала провинившаяся.
Прокурор велел увести несчастную под конвоем.
Худощавый суицидник с запекшимися сгустками крови на полотняной, подвязанной шнурком рубахе, обелял свои самовольство и богонеподчиненность:
– Я понимал: меня прикончат. Но сначала поизмываются. Я боюсь боли. Меня бы кололи иголками в мошонку… Я пустил пулю себе в висок, когда ночью приехал «черный ворон»… Я не выдержал бы пыток и ожидания расстрела! Чекисты поднимались по лестнице!
Защитник его отмазывал:
– Тот, кто грозит, что покончит с собой, как правило, этого не делает. Самоубийцы молчаливы. Если бы он хоть слово кому сказал, намекнул, что собирается над собой надругаться, его бы отговорили.
Статный прокурор в бархатной мантии громил слабака:
– Обязан претерпеть все, что ниспослано! Значит, выпал жребий быть замученным. Жизнью ссужает Господь и дает ее в аренду на определенный срок. Зачем торопиться? На тот свет не опоздаешь. Апропо скажу: тебя бы не расстреляли. И не замучили. Игральный кубик выкидывает иногда удивительные фортели. Тебе выпало бы шесть очков, а не – два. Чекисты привезли тебе приказ о повышении на службе. Вот уж верно: поспешишь – людей насмешишь. – Произнеся это, морализатор, вопреки изреченной шутке, не улыбнулся. – С какой стати в одностороннем порядке расторг договор с Господом, сократил отпущенное тебе время, то есть произвел коррекцию в сторону уменьшения?
Еще один самоубийца, не сознавая безвыходности своего проступка, самовосхвалялся:
– После моих доносов были казнены сотни безвинных. Но собственной смертью я искупил ужасный грех, кровью смыл позор!
Судей возмущали и выспренняя риторика, и трусость, и глупость:
– Чего ты смыл? Смылся из жизни, приплюсовал к казням-убийствам свое самоустранение. Надо было каяться, ползать на коленях перед каждой обездоленной тобою семьей…
– Но их же сотни!
– Вот и избывал бы по чайной ложке, вычерпывал свое зло…
Длились слушания об элементарном (как его расценивали выступавшие) инциденте. Уличенный и потерпевший были разделены, будто барьером, длинным шатким столом, иначе набросились бы друг на друга с кулаками. Сладкоречивый адвокат с опаловым полунимбом над головой расхваливал своего подопечного – озлобленного стриженного «под бобрик» крепыша:
– Простой, незамутненный миляга! Хотел, чтоб всем стало лучше.
Миляга-битюг не возражал против данной ему аттестации. И нападал на того, кого обобрал:
– Он – ни к чему не пригодная шваль и пропойца! Я приучал его к труду. – И прибавлял поспешно: – Хоть я, конечно, раскаиваюсь в содеянном.
Насколько Антон смог уразуметь, барыга соблазнил безработного обещанием легких денег. Подпоил, украл паспорт и отправил не на мифический золотой прииск, как было договорено, а продал в рабство. В горном селении тому не платили, держали в яме, били и заставляли выполнять унизительную поденщину. Синяки сохранились на теле пострадавшего, он предъявлял гематомы:
– И ребро сломали… И ключицу!
Выжига-«бобрик» и его адвокат настаивали на своей правоте и доказывали: эксплуатировать дурней приходилось поневоле, чтоб добыть средства на лечение больной жены и ребенка:
– Пострадавший, если бы не был идиотом, не полез бы в ярмо. Надувательство в сообществе умных большая редкость. А кретины сами напрашиваются в услужение. Как же этим не воспользоваться?
Но защищавший проданного в рабство беспаспортника юрист был не лыком шит:
– Мнимый работодатель облапошил две тысячи двести тридцать два неглупых человека! У него три жены! – Юрист водил пальцем по строкам, которые оглашал. – Он злоупотреблял алкоголем больше тех, кого упрекает в пьянстве и никчемности!
По ходу дебатов выявилась еще одна не красящая ловкача деталь: факт прелюбодеяния с соседкой, замужней женщиной, ей распутник приплачивал неправедно добытыми деньгами.
Казалось: приговор очевиден, но торговцу людьми изо всех сил помогали проинструктированные нужным образом свидетели. Беспаспортник и его юрист приводили своих сторонников, те оглашали контр-доводы. Вынесение окончательного решения откладывалось. Прокурорские интонации звучали все нетерпеливее, а из рядов, где сидели жены и старенькая мать обвиняемого, раздавались просьбы о снисхождении.
– Мой сыночек не бросил меня до последнего, приводил самых дорогих врачей! – всхлипывала старуха.
Антон, возвращаясь мыслями к маме и папе, задал дедушке неотступно преследовавший вопрос:
– Есть разница между похищенными в пресыщенности миллионами и украденной от голода булочкой? Или рубашкой – когда нечего надеть?
Дедушка ответил:
– Каждый несет свою долю ответственности за малейшую частичку неправедности. Нельзя сравнивать свои и чужие проступки – в собственную пользу: «Ты хуже, чем я? Значит, я лучше и меня не за что наказывать!».
Это мерило судьи применили к немецкому солдату – сжегшему детей и стариков в запертой белорусской избе.
– Жгли свои – односельчане! – уверял солдат. – Я участвовал опосредованно: отдавал приказы.
Расследователи анатомировали:
– Ты приказывал, угрожая автоматом. Люди под дулом были вынуждены…
– Нет, могли отказаться. И достойно погибнуть, – возражал солдат.
– Изучал Библию? Знаешь заповедь «Не убий!»?
– Так точно! Но я тоже выполнял распоряжения. Своего начальства.
– Какое из наставлений, по-твоему, важнее: Господа или капрала?
Гитлеровец впал в замешательство:
– Я об этом не думал.
– Не лги! Конечно, думал! Но удобнее: не перечить вышестоящему.
– Меня бы убили, если бы я не подчинился!
– Сам говоришь: поскольку рано или поздно придется пройти через умирание, надо дать себе установку – умереть непостыдно. Годом раньше, годом позже…
Солдат давил на жалость:
– Я был молод… Умирать не хотелось. Я – святой по сравнению с теми, кто уничтожил миллионы! – И перешел в наступление: – Человек исполняет работу, ради которой его наняли. Прикажут убивать – станет убивать. Велят не убивать – не будет убийцей.
Дедушка вздохнул:
– Вот оно, то самое сравнение в свою пользу: «Убил всего полсотни… Или пятерых. А те – уложили армии. Где мне до них?». Не хотят признать: гармонию не поверяют кровопролитием.
Пространные препирательства были посвящены далекой от небесных сфер теме нарушений правил дорожного движения. Судили шофера, задавившего человека.
– Я ни при чем! – дундел водитель. – У автомобиля отказали тормоза. Это техническая неполадка!
Судьи (с ошалело высунутыми языками) исходили пеной:
– Тормоза должны быть в голове, а не в механизме!
Они же распутывали: кто виноват в гибели мужчины, бросившегося под самосвал? Бледный, с размозженным черепом и раздробленными костями самоубийца, зная, что сводить счеты с жизнью строжайше запрещено (за суицид еще как накажут!), отрицал свой умысел:
– На меня наехали и задавили!
Шофер, скромный парень, стыдил его:
– Как не совестно! Вы сами бросились под колеса!
Прокурор-резонер был солидарен с ним:
– Категорически возбраняемая подстава. За которую, все знают, полагается всыпать по первое число! Преступник – ты, а не шофер!
Эмансипированная дамочка, кокетливо поправляя прическу, возводила поклеп:
– Не уступил дорогу! Каждому воспитанному человеку известно: женщину надо пропускать.
– Я ехал по основной трассе, – сопротивлялся мужчина, – а она, вертихвостка, выезжала с боковой. И в меня и влупилась. Мне не хотелось погибать!
– «Ледиз ферст» – правило для игр в постели, – скабрезно склабился секретарь заседания. И обращался к немногочисленной публике: – Надо завершать прения. Иначе разговор будет длиться вечно, мужчины и женщины общаются на разных языках.
Судили проходимца, отрицавшего существование Бога, но в конце жизни обратившегося к церкви. Тот изворачивался:
– Я искал истину! Не я придумал атеизм!
Его подшпиливали:
– Конечно, не ты, твой умишко на такое не способен. Ты всего лишь зарабатывал, и неплохо зарабатывал, выступая против Бога.
Постановили: приковать апологета выгоды, чтоб не вихлялся, к камню на солнцепеке.
Некто в строгом чиновничьем партикуляре отвечал на вопросы уверенно и четко (сразу было видно, что врет):
– Да, я предложил разместить кожно-венерологический диспансер в кельях Николо-Угрежского монастыря. Не для того, чтоб унизить святую веру. А потому, что заколоченный монастырь пустовал. Простая целесообразность: мы, партийные работники, заботились о здоровье трудящихся. А еще… – Говоривший просиял. – Это было сделано в память о Владимире Ильиче Ленине. Он страдал наследственным сифилисом. Вы согласны: только в пораженном сифилисом мозгу могла возникнуть идея погрузить проституток на баржу, вывести ее в открытое море и утопить? В силу особой значимости этой болезни для нашей страны, мы обустроили в кельях диспансер.
Витиеватого святотатца – прямо после судебного заседания – отправили к Желтому морю. Исходя из воплей приговоренного, можно было заключить: это суровая казнь. Конвоиры в гимнастерках, сапогах и брюках-галифе поволокли сопротивлявшегося богоборца к клетке на колесах, в которой ему предстояло быть доставленным к месту отбывания повинности.
Схожий с предыдущим жох и самооборонялся схоже:
– В советское антибожественное время отсутствовало понятие «грех»!
– Хочешь сказать, не ведал: воровать, убивать, прелюбодействовать нельзя? – насмешничали судьи.
– Таким мелочам как воровство не придавали значения. Главное было – верность марксисто-ленинской идеологии.
– В геенну лицемера! – единодушно постановили законники.
Сменившая ханжу на скамье подсудимых свиноподобная тетка лопалась от самообожания. С нее быстро согнали спесь:
– Почему возражала против женитьбы твоего сына на прихожанке церкви, куда сама ходила молиться?
– Она лентяйка! И внешне оставляет желать… Мой сын заслужил лучшую!
– В отбросы общества ту, которая не нравится? Нет, должна была взять ее под опеку. Обучила бы трудолюбию. Любить надо всех без исключения. Тогда всем будет хорошо!
– Всем, кроме меня! И сына! – плаксивилась свиноматка.
– Подлинный христианин обязан выбирать для себя что похуже. Чтоб остальным досталось лучшее! А ты привередничала. Как такое стыкуется с христианской моралью?
Приговорили ее за кочевряжничество – к вымоканию в уксусе.
– Я не селедка! – верещала она.
– Истинно так. Но если б к тебе так отнеслись, как ты к этой девушке, осталась бы одинокой и несчастной. Бездетной.
По первое число вломили и весьма симпатичному мужчине:
– Разве можно радоваться, что сгорела чья-то дача?
Он объяснял:
– Я не пожару радовался. А тому, что дочь не поедет на эту дачу встречть Новый год. Она неопытна, молода. Мало ли что могло произойти, когда молодежь выпьет, разгуляется… И вдруг сообщают: дача сгорела. Конечно, я вздохнул с облегчением.
Ему впаяли поджаривание без масла.
Вгрызались по вопросу воспламенения и в куда более виновного огнепоклонника:
– Зачем завещал, чтоб тебя сожгли? Ты же знаешь: на Страшный суд должно являться полностью укомплектованным. Целехоньким! Реставраторам пришлось вылепливать тебя из пепла! По-твоему, на небе нечем заняться, а только Фениксов возрождать?
Крематорец соскребал с себя копоть:
– В моргах не моют, хотя омовение означено в прейскуранте. Но обманывают: не обмывают! Чем предстать перед Господом – чумазым и сгорать от стыда, лучше – прахом пойти в печи!
Судьи переглядывались:
– Что деется на земле! Первостепенные правила не блюдутся. Не можем бесконечно разгребать пепел нижестоящих беспонятцев!
И перенаправляли гнев на злостных нарушителей:
– Господь старается, разнообразит климат, а вы брюзжите: то жарко, то холодно, то дождливо! Поведенческий кодекс нероптания запрещает недовольство погодой!
Чихвостили сутяжников, которые ныли:
– Если бы Господь действительно нас любил, не допустил бы хворей, поселившихся в нашем организме. Оградил бы от болезней.
– И как бы вы тогда умерли? – хихикали судьи. – Здоровенькими?
Спорщики качали права:
– Не наше, а ваше дело – изобрести причину смерти. Болезней вообще не должно быть, если на то пошло. Не мог Всеблагой напичкать прекрасные тела микробами и опухолями…
Взъерошенный, издерганный, словно оглушенный пыльной подушкой субъект качал права:
– Накануне смерти должен грезиться пиковый туз острием вниз. Мне пиковый туз не показали. Я не был подготовлен к уходу из жизни…
Судьи высокомерничали:
– Это ж надо быть настолько необразованным! При гадании на картах пиковый туз острием вниз предвещает смерть. В снах другие приметы. А к смерти надо быть готовым всегда.
Мужчина в брезентовом плаще с капюшоном и с удочкой уверял:
– Я никогда никого не обманывал!
Судьи потешались:
– А рыбу? Насаживал на крючок фальшивую синтетическую приманку! Выдавал блесну за съедобного живца!
Спиннингист не знал, что возразить.
Замухрыжистый, однако, державшийся надменно принципиалец подвергся откровенной агрессии судей:
– Какими достижениями можешь похвастать в напрочь незадавшейся своей судьбе?
– Я не ходил ни к кому на поклон, – высокомерно известил он.
– И это все? Негусто! Если бы подладился, а не лелеял гордыню, многое сдвинул бы с мертвой точки, удалось бы осуществить задуманное, но ты, нищеброд, лишь холил свою несуетливость! Это все, в чем ты преуспел! Растерял друзей, сделал жену несчастной, детей обрек ходить в обносках…
– Да, я не самореализовался в общепринятом понимании этого термина, – соглашался он, – зато сохранил душу неущербной…
Определяя участь кичившегося непопранной честностью несгибаемого неудачника (который и с теми, от кого теперь полностью зависел, держался неуступчиво), судьи все же вынесли оправдательный вердикт и выдали замухрыжке путевку в рай.
Антикорупционное изыскание, предпринятое финансовым отделом Небесной Бухгалтерии, зарегистрировало расхлябанность управленцев, трудившихся в Копилке Господа. Обвинительное заключение, перепечатанное на машинке «Эрика», гласило: «Участились факты спекуляций гаубицами и подводными лодками. Группа допускала (в обмен на золото) утечку вредных теоретических догм и ядовитых газов, а также запрещенного химоружия и ракет средней дальности. Растрескавшиеся стены хранилища не могут служить оправданием хищений: в щель, даже просторную, ни танкам, ракетам, ни подводным лодкам не протиснутся, их вывезли из ангаров через ворота. Складские помещения Копилки нуждаются в ремонте – иначе в прорехи и впредь будут проваливаться значимые для Истории инвентаризационные единицы»…
Расхитителей поснимали с материально ответственных должностей и направили работать в справочные киоски. Строительным службам предписали в кратчайший срок устранить проломы.
– В земных условиях призракам не сдвинуть пушинку, а здесь охочи до цепочек, браслетов, серег? – удивился Антон.
– Предметы в невесомости не имеют якоря, вот и уплывают. Вслед за космическими кораблями, – обосновал дедушка.
Антону любопытствовал:
– А подсудимые? Могут удрать в дальний окаем Вселенной? Случаи примирения между потерпевшими и виноватыми бывают?
Дедушка был рад поразглагольствовать:
– Недавний счастливый эпизод: варившемуся в бензине вышло послабление – перевели в керосиново-пропановую цистерну. И он узнал в истопнике знакомца. Которого некогда убил. Тот его простил. В обмен на два отгула. Кочегарская работа утомительна. Дал показания: убийца отправил на гибель не впрямую, а опосредованно, велел идти по минному полю, героически прокладывая дорогу другим бойцам. Время было суровое, военное. Кому-то надо было умирать…
Патриотический подход не казался Антону оптимальным. Но, может, арбитражный перекос возникал на изначальных этапах следствия, содержался в неразглашаемых, не доступных досужим дилетантам инструкциях? (В открытости пребывали лишь аляповатые плакаты, развешенные по стенам: «Преступного овоща – в котел!», «Паразит, карающий меч тебя поразит!»). Или неколебимая административная строгость и нечастая неформальная лояльность определялись неутолимым (и бесконтрольным!) произволом тех, кому дозволялось казнить и миловать?
Впротивовес настенным трюизмам, голоса из котлов обжаловали облыжности.
– Не смеют карать за клаустрофобию! – чревовещал некто, кипевший в густом вишневом сиропе. – С детства я боялся замкнутых пространств. Представил: окажусь в гробу и могиле, это двойная непереносимость. Урна для праха – не лучше. Велел развеять прах. Меня – в котел с крышкой. Опять замкнутость!
– Впаяли огуречный рассол за лучшие побуждения! – откликался разбухший, как патисон, широкоплечец. Поваренные кристаллы ломко похрустывали на коже, когда он физкультурно потягивался. – Близкий друг просил стать крестным отцом его дочери, я постеснялся признаться, что не крещен. Поучаствовал в таинстве! Себе во вред!
– Меня, в отличие от вас, недоумков, перекидывают из плавильни в изморось и обратно за небрежность! – хвастал персонаж, которого ангелоподобные чертенята тащили с раскаленной докрасна платформы и укладывали на покрытое застывшим жиром днище прохладной сковороды. Лопнувшая трещинка отвисшего живота делала пузана похожим на вскрытый арбуз. – Я был референтом генерального секретаря компартии Леонида Брежнева и не выполнил его поручение… То есть проявил небрежность в отношении Брежнева!
Каким именно заданием манкировал арбузный толстяк, осталось неразглашенным. Он лишь покрикивал на ангело-чертенят:
– Аккуратнее! Я подал апелляцию на высочайшее имя!
В Долине Котлов, среди иссушенных поджариванием и вываренных до студенистой прозрачности инкубов, Антон обнаружил кумира своего детства: упитанного, холенотелого хоккеиста – нападающего команды «Спартак» и сборной Советского Союза. Под Новый год Евфросинью поощрили в поликлинике пригласительным билетом – на вечер-чествование победителей зимней Олимпиады в Инсбруке. Евфросинья передарила пропуск Антону, и он, в фойе Малой арены лужниковского Дворца спорта, трепеща, попросил автограф у прославленного чемпиона.
Измочаленный небесными мытарствами звездный форвард не желал мириться с послежизненной обструкцией:
– Мы отмечали победу. Завоевали Кубок! Я забросил пять шайб в финальной игре! И вырубился после первой рюмки… Когда очнулся, наступило послезавтра. Один день как бы выпал из бытия. К этому и придрались.
Отнимать добытые (громадным усилием!) блага – в уплату за пустяковое упущение? Наказание несоразмерно проступку! Каждый вправе распоряжаться временем по личному усмотрению! В защиту штрафника Антон выдвинул бесспорную (казалось) общепринятость: «Победителей не судят!». Но натолкнулся на модернизированный и, если вдуматься, небезосновательный подход: «Победителей судят строже, чем пораженцев! С подпадающих под категорию «Ни пятнышка на репутации» – спрос выше, изъянов в их биографии быть не должно!».
– Надо пытаться максимально оправдать, а уж если не получится, подвергать остракизму, но опять-таки не рьяно, – высказал точку зрения Антон.
Дедушка отрикошетил:
– В тот потерянный день, когда шайбобросатель дрыхнул без чувств, в его судьбе должны были произойти кардинальные изменения. Он должен был повстречать предназначенную ему женщину, вступить с ней в брак, родить дочку, сделаться спортивным комментатором. А он упустил миг, стал никчемен… – Дедушка повысил градус разноса: – Его выклянчивание райских выгод отталкивает: напротив, должен проникнуться сознанием вины и требовать, добиваться наказания! Обязан ринуться в костер и ожогами избыть проступок, уравновесить, хоть частично, муки совести. Ибо вывариванием и поджариванием не заслужишь окончательное очищение. Прокурорам и судьям приходится здесь труднее, чем подсудимым. Как прикажешь исполнять божью заповедь «Не суди, да несудим будешь», если такова профессия? Рай не может быть не регламентирован, иначе получится разлюли-малина-генна-ад-кромешный. Показные покаяния – кукушкины слезки. И – опасный самообман. Земля и Небо – сообщающиеся сосуды. То, что видишь здесь, – отраженный свет того, что происходит внизу. Люди превращают планету в сковороду, земной шар стал котлом для кипячения. Это – прямо привнесенные в надоблачность огненные параллели и меридианы двуногого бытия и плачевные результаты деятельности человека.
Под влиянием этой апокалиптически-синоптической проповеди (стало быть, и Небесам грозит светопреставление?) Антон предпринял очередную изыскательскую вылазку – торопясь, пока планеты не перекувырнулись, найти маму, бабушек, отца! – и едва приметная тропиночка привела его к стилизованной под африканское бунгало вилле, укрытой пологом джунглей: на флагштоке реял алый стяг с черной свастикой, дорожки меж клумбами оранжевели толченым кирпичем. Приглашающе приоткрытые стеклянные двери демонстрировали внутрений безукоризненный комфорт: книжные стеллажи золотились тиснением разнокалиберных корешков с надписью «Майн кампф», валялись на полу списки недоистребленных в газовых камерах заключенных.
Антон рассказал об увиденном дедушке. И был ошарашен:
– Ты побывал в покоях Гитлера.
– Гитлер – в раю?
Дедушка отвел глаза.
– Полагать, что смерть уравнивает жертв и палачей – ошибка: людская молва не даст сгинуть превознесенным ореольцам. Гитлер и Сталин остаются символами успешливости, иначе мыкались бы по Дворцу Правосудия из кабинета в кабинет, с этажа на этаж, из зала в зал, но обрели иммунитет послежизненных привилегий. – Дедушка не скрывал неодобрения: – Человеческие предпочтения не котируются на небесах, но некоторым удается ими заручиться и еще как спекулировать… При этом внешние приличия и соответствие земным представлениям о справедливости блюдутся: ярым преступникам предписано обитать в так называемом Секретном раю. Коли их резиденций и их самих никто не видит… Их как бы в раю и нет. Вход охраняется, посторонним не проникнуть. Ты оказался там случайно. То есть – не случайно, случайного не бывает...
Антон не находил слов.
– Почему такое возможно?
У дедушки слов, наоборот, был переизбыток:
– Небесной рати недостает численности и сил, чтобы доставлять виновников на скамью позора. Кроме того Гитлер и Сталин продолжают дурачить ангелов-простачков с помощью пятиконечных и свастичных бирюлек: нацепи такую на грудь или рукав, и якобы заменит крестик или ладанку… Гитлер не стесняется повторять, что осознанно приговорил к казни миллионы. Его подручные гордятся, что конвейер смерти работал с неслыханной скоростью. Сталин поначалу струсил и заявил: де смертные приговоры не им подписаны, виноваты «двойники», ведь было множество загриммированных «под вождя» подставных дублеров, дескать они подделали его факисимиле. Сподвижник Сталина Молотов тоже списал миллионы санкционированных расстрелов на «двойников» и ускользнул от наказания. Ты сам видел, сколь уверенно держится погубивший половину России Троцкий... Иным удается вообще игнорировать судебные инстанции. Не откликаются на повестки и благоденствуют! – Дедушка бессильно развел руками. – Потворствуя убийцам, формируем убийственную вечность!
И вновь увлек Антона в анфилады судебных палат.
Два ферта (высоченный и низенький), обещавшие девочке оправдательную медсправку для погашения провинности за утерю крестика, отюливали от причастности к покушению на Распутина. Обоим – великому князю Дмитрию Павловичу и просто князю Юсупову – вчинялась гибель наследника российского престола цесаревича Алексея. В обвинительной резолюции значилось: «После вступления больного в совершеннолетие гемофелия проходит без следа, а до совершеннолетия с нею мог справиться лишь Распутин!».
Пройдохи отбивались:
– Кто может знать: включился бы механизм выздоровления или не включился бы? Ведь царевич расстрелян большевиками!
– Царевич не был расстрелян! – оповестил приглашенный на амвон архивариус-архангел. Порывшись в бумажно-пыльной завали принесенного с собой рюкзака, он извлек бланк с грифом самарской поликлиники №8 и зачитал эпикриз: – Алексей скончался по причине одолевшей его гемофелии.
Со свидетельской скамьи тяжело поднялся организатор расстрела царской семьи Яков Юровский и объявил:
– Царевича Алексея прикончил лично я! В упор.
– Распутин также не был убит и продолжал лечить цесаревича, излечил бы окончательно, – ровным голосом длил доклад архивариус. – Но старец и цесаревич оказались на годы разъединены, поэтому болезнь цесаревича прогрессировала.
Услышав, что цесаревич выжил, Юровский разволновался:
– Выходит, я промазал? Не пришиб его? Но я горжусь этим охотничьим трофеем! Выходит, ничего выдающегося я в течение своей жизни не совершил? Выходит, жил напрасно?
Он покинул зал в удрученном настроении.
– Разве мы не порешили Распутина? – заголосили князья. Они тоже впали в транс. – Наши имена вписаны в Историю благодаря этому убийству!
Было зачитано письменное свидетельство секретаря Распутина Арона Симановича. Он скрупулезно фиксировал: после каждой трапезы у Юсупова его желудок будто наполнялся чугунными пушечными ядрами, это означало – в кушанья, которыми потчевали самого Распутина и его «сменщиков», подмешан яд. Симанович присягал: спасая Распутина, он буквально объедался отравой (причем поедал ее задолго до окончательного, финального отравления). Ядом кормили и владельца ночлежки, в итоге скопытившегося.
В стане убийц возникла сумятица. Данные об отправке на тот свет не Распутина, а ночлежника, меняли статус Юсупова, Дмитрия Павловича и примкнувшего к Юсупову и Дмитрию Павловичу доктора Лазаверта.
– Зафиндилили на тот свет не того… Не Григория Ефимовича… – приговаривали они, не зная: радоваться или печалиться. – То есть, освобождаемся от наказания? – Их эта новость приравняла – по самоощущению – к легкокрылым ангелам. – Жаль, конечно, хозяина ночлежки, безусловно, жаль. Но мы его пристукнули со всеми почестями. Как подлинного Распутина! Огромная честь для такой сощки!
Великий князь Дмитрий Павлович, в связи с выигрышной коньюнктурой, надеялся отлынить от каторжных работ:
– Столь непрезентабельное наказание не для моего монаршего высочества. К физическим нагрузкам я непривычен.
Прокурор грохотал:
– Не ждите послаблений! Вы убили! Пусть не Распутина. Но – убили! Стреляли в отравленного, шарашили гирей по голове! Само намерение убить ложится тяжким грузом.
Врач Лазаверт со слезой в голосе поведал: раздобытый цианистый калий он в последний момент заменил обыкновенным зубным порошком. С мятным привкусом.
– Неопасным! – Демонстративно врач-убийца проглотил якобы тот самый эрзац – зубной мел – подтверждая его безвредность. При этом картинно пускал изо рта белую пену и повторял клятву Гиппократа. Вдобавок он опротестовал донесение Симановича: – Мы были в курсе: Распутин не ест сладкое. Вот и сыпали порошок в пирожные, будучи уверены: он к ним не притронется.
– Для чего сыпать – хоть тальк, хоть любую другую дрянь, хоть в пирожные, хоть в питье? – возмутился дурацкости заявления Антон. «Обязанность врача – спасать, а не потворствовать ублюдкам! – думал он. – Нет, Лазаверт явно не был откомандирован в людскую гущу (с оздоровительной миссией) из штата Небесного перелетного госпиталя!».
Архивариус дал справку:
– Врачи играют немалую роль в поворотных для судеб мира событиях. Фельдшер Джеймс Уайли в угоду взошедшему на престол Александру Первому определил: убиенный Павел Первый не был задушен, а скончался от апоплексии. Скрыв очевидное, угодливый медик стал фаворитом при дворе. А доктор Мандт, когда Николай Первый занемог инфлуенцей и спросил: «Я умру?», не скрыл и ответил: «Да», предоставив императору возможность оставить взвешенные завещательные распоряжения.
Дмитрий Павлович в пандан Лазаверту выдвинув еще более глупую версию:
– У Распутина побаливали зубы, порошок бы их запломбировал. Если и хотели прикончить старца, то ради цесаревича, чтоб ребенок не мучился неизлечимой хворью. Хотели облегчить мальчику уход… – И осведомился: – Посоветуйте: что выгоднее? Может, все же побороться за признание убийства состоявшимся? Нас многие за устранение Распутина благодарили и благодарят.
Юсупов испрашивал командировку в свое имение близ Орла:
– Я зарыл там клад. Весь его обещаю пожертвовать на благие нужды.
Ему отвечал специально вызванный по столь значимому поводу консультант отдела кладопреемничества и сбора податей. Сверяясь с Инструкцией № 0987678904432 и распоряжением №993453330909, полученными из Верховной Канцелярии, он доложил:
– Командировки допускаются в исключительных случаях. Пожертвования от убийц могут быть приняты, если подсудимые испытывают раскаяние. В данном эпизоде ясности нет.
Лазаверт досадовал:
– Выходит, я впустую столько зубного мела извел!
– Почему Распутин не явился сюда? – качал права великий князь Дмитрий Павлович. – Опасается? Что довершим не исполненное? Если б он был всемогущ, уберег бы своих дочерей и сына! Нет, сгинули в сталинском лагере, а спасшаяся дочка пошла по рукам за границей!
– Этот выкрик внесите в протокол! – потребовал подоспевший к разгару прений Явился-не-Запылился. – Вот каков настрой выродков: хотят Распутина доубить! – С жаром «адвокат на общественных началах», как сам определил свою функцию, напустился на убийц: – Носит же земля трусов и врунов! Клялись царице, что не имели отношения к покушению! Я бы вменил вам обвинение по статье: «убийство, отягощенное ложью»!
Подробно он остановился на произошедшей в ту снежную декабрьскую ночь расправе над собакой Юсупова, которую заговорщики пристрелили, чтоб ее кровью замаскировать следы человеческой крови во дворе дома, где было совершено убийство.
– За что пострадал невинный пес? – ставил вопрос ребром Явился-не-Запылился.
– Моя собака. Что хочу, то с нею делаю, – ответил Юсупов. – Не я один такой. Черчилль не только громил Гитлера, но и охотился на мух! Убитых насекомых складывал рядками.
– Мухи – это не собаки. – прервал его Явился-не-Запылился.
Юсупов дозавершил мысль:
– Революционные солдаты, ворвавшись в Александровский дворец, постреляли коз, бегавших в парке, царь Николай Второй разводил их в своем зоосаду… В кого ни ткни, и правители, и подданные – смакуют убийства, это – норма!
– Хотите сказать: кто не убивает – тот ненормален? – уточнил Явился-не-Запылился. Но признал: – Неубийц среди двуногих немного. Упрекают турок: сжигали заживо армян. Но чем европейцы лучше? Человекосожжением пробавлялись инквизиторы. Иван Грозный помешивал остроконечным посохом угли под стенающими жертвами своего мучительства...
Дедушка пригорюнился:
– Я вот уж не был очарован государем. Тот, кого превозносил мой папа, отстреливал во время прогулок по Царскому Селу птиц и приблудных животных. Уничтожил больше двадцати тысяч ворон… Одиннадцать тысч собак… Восемнадцать тысяч кошек… Цифры достоверны: он вел записи. Нет, чтоб заняться обустройством вверенной ему державы! Расстрел 9-го января не был случайностью.
– Царю, прозванному Кровавым, подфартило с канонизацией, – расширил обличение (и юсуповской банды тоже) Явился-не-Запылился. – Убийцам собак и кошек кипеть в смоле … А не красоваться на иконостасах.
Заговорщики воодушевились:
– Пусть нас канонизируют! Мы – тоже мученики! Мы хотели спасти Россию! Царь ее гробил, а мы спасали! Многих, подобно царю, пустили в расход без суда и следствия, но мало кто из казненных причислен к лику святых. Кстати, был ли причислен к лику гильотинированный Людовик ХIV? И обезглавленный Томас Мор?
– Про Жанну д,Арк знаю: была, – сказал Антон. – И Андрюша Ющинский признан святым…
– В пику оправданному Бейлису, – прошипел Дмитрий Павлвич.
– Григорий Распутин склонился к буддизму, потому что христианство не предусматривает жалость к животным, – заговорил дедушка. – Апостол Павел предупреждает: Бог не печется о волах…
На трибуну взошел вытребованный из задних рядов дядя царя, великий князь Николай Николаевич. Но не успел дать показания. Стая окровавленных псов (среди них выделялась белая борзая, которой Николай Николаевич, похваляясь остротой сабли и куражась перед гостями, в пьяном угаре отсек голову) ворвалась в зал и загавкала:
– Заслуживают наказания! И Николай Николаевич, и его племянник!
Закаркали слетевшиеся (сквозь открытые окна) убитые, как они объявили, лично царем вороны:
– Заслуживают наказания все Романовы!
Замяукали приконченные кошки:
– Смерть царя, даже мученическая, не искупает наши смерти!
Утихомиривая разбушевавшуюся живность, судья объявил перерыв, а секретарь собрания скучным протокольным тоном сообщил: на одной из недавних коллегий подсудимый Зевс разжалован – из богов в рядовые браконьеры – за неупорядоченное молниеметание, в результате которого угроблен кот, коему скоро-опалительная гибель не предназначалась. Обделенный долголетием мурлыка истошно выл в толчее мяучащей, гавкающей и каркающей своры:
– Хочу жить и ловить мышей!
Антон спросил дедушку:
– Понесет кто-нибудь наказание за гибель псов и ворон?
Дедушка ответил уклончиво:
– Исхлопатывать разрешение на допрос коров, коз и китов приходится годами. Крючкотворы таким макаром специально затягивают разбирательства и уводят их в тупик...
Он прибавил:
– Павел Первый был эстет и полагал: цель охоты – не убивать, а заставить оленя бежать, чтобы любоваться грацией. Сын Павла охотился кроваво, это и привело его убийству родного отца. Царь-светоч, царь-реформатор Александр Второй, когда в Мраморном дворце выступал скрипач Венявский, напустил на музыканта своего ньюфаунленда Милорда, пес вспрыгнул на сцену и положил лапы на плечи перепуганного артиста. Просвещенный государь долго наслаждался этим испугом и не отзывал пса. Ну, а потом покатилось: убийц сменяли убийцы, градом сыпались с веток галки, полегли на парковых газонах и дорожках псы и кошки. Придворный целитель Бадмаев для приготовления снадобий вырывал у медведей желчные пузыри, а у тигров – когти. Сколько бедных мишек и тигров извел ради состоятельных двуногих пациентов! Я не прибег к его целительским услугам, узнав: он напитывает себя барсучьим жиром. Ленин мозжил головы зайцам, спасавшимся от наводнения на островке в Шушенском. Сталин мозжил уже не не зайцев...
Кружа по Дворцу Судопроизводства, Антон и дедушка повстречали шаркавшего им навстречу Константина Петровича Победоносцева.
– Уголовных придирок ко мне быть не может! – пресек шутливо-бестактные домыслы Антона правильный во всех отношениях обер-прокурор. – Но мои показания касательно стибренных у Евдошечки броши и сережек крайне важны.
Константин Петрович выверил каждую запятую своего продиктованного секретарю заседания и застенографированного признания: «Я, Победоносцев, обокрал бывшую фрейлину, дабы сделать пожертвование на мощение небесных дорог».
Антону помнилось: в слямзивании ювелирки подозревали поддавоху Бориса. Судья держался другого мнения (и пытался Константина Петровича образумить):
– Зачем берете вину на себя? У нас отмечено: виновна Ганна!
– Я взял! – отрывисто повторял не терпевший малейщих возражений обер-прокурор.
Оказалось: сухарь-педант-аскет, посетив квартиру в Неопалимовском (куда Антон привел его и Распутина на экскурсию), без памяти втюрился в домработницу Сердечкиных-Головорезовых Ганну. Позже, при содействии своего денщика Малюты Скуратова, Константин Петрович разыскал Ганну на Поле Бесплотных Колосьев и принялся добиваться ее оправдания. По его распоряжению прямиком из котла был доставлен для опроса Борис: с одежды выпивохи стекала горячая вода, от волос валил пар, обваренное тело, видневшееся в прорехах одежды, пузырилось. Борису смягчили приговор – в части обворовывания Евдошечки, но не амнистировали покражу соленого огурца из запасов пенсионеров Головорезовых, срок исправительного кипячения не скостили. Огурец стал поводом для долгих препирательств. Борис доказывал: «Закуска уменьшает вред сивушных масел, стакан водки без огурца – пьянство, а с огурцом – польза!», но Константин Петрович, а вместе с ним и присяжные, остались тверды:
– Благая цель не оправдывает ведущего к ней грехопадения!
Эту же презумпцию распростанили на препровожденную в суд с Поля Бесплодных Колосьев Ганну.
– За ней много накопилось. С оккупантом спуталась. Партизан предала. Ребеночка спицей заковыряла.
Не помогло доносчице и распевное чтение Константином Петровичем поэмы, сочининенной им во славу обворожительной пассии, которую обер-прокурор (и наставник двух императоров) называл в стихах то «Лаурой», то «Панночкой». Получив отлуп, поэточтец взъярился и срывающимся голосом пригрозил, что пожалуется в надзирающие органы на непочтительное отношение чинуш к недавнему посреднику меж Господом и паствой (но разве имеют предел сии полномочия?). Гневно он противопоставил саботажу халтурщиков ударный труд небесных строительно-монтажных бригад.
Изумленный нелицеприятностью судей и высоким качеством оды «К Лауре», Антон навострился в соседнее помещение, откуда неслись отнюдь не поэтические выкрики. Молодые арестанты оспоривали (и отчаянно жестикулировали) – инкриминируемые им посягательства. Усталый законник в заношенном сюртучишке бубнил:
– Происходите из обеспеченных семей. Взять хоть вас, Богров… Или вас, Троцкий-Бронштейн… Не могу не заметить: у вашего отца была мельница… Чего вам не хватало?
Отвечал Богров:
– Речь не о богатстве. Мы унижены! Если бы Столыпина не убил Панюшкин, боевое крещение принял бы я. И не сбежал бы после убийства, а выступил бы с объясняющей причину этого убийства речью.
Троцкий-Бронштейн, протирая пенсне, картавил:
– Панюшкин застрелил вешателя. И правильно сделал. Требую обжалования. Требую, чтоб меня, Богрова и Панюшкина признали невиновными. Кипеть в котле по сорок минут дважды в неделю – преступное времярастрачивание!
Нежданно-негаданно (для Антона) в коматозную атмосферу ввалился еще более накаливший градус преткновения Панюшкин. И бросился обнимать Троцкого:
– Лев Давидович! Спасибо за объективную оценку моего вклада в революцию! Я казнил по совести, согласно классовому чутью! И не опозорил высокое звание коммуниста! Те, кто крушил-рубил ради торжества рабоче-крестьянской элиты, заслужили почет!
Троцкий брезгливо утирал обслюнявленную щеку, а Панюшкин кривым пальцем указывал на Антона:
– Есть не понимающие принципов пролетарского интернационализма. А принцип в том, что расстреливать надо всех! Без разбора национальной принадлежности! Атеистом я сделался по вине монаха Илиодора, его бесчестность отвратила меня от церкви. Прочие мои проступки – результат удара тростью в лоб!
Сановный прокурор неспешно спустился с возвышения, где восседал в бархатном кресле, и, взмахнув невидимым кадилом, окропил:
– Контужены тростью? А до встречи с Илиодором верили в Бога? Это облегчает вашу участь.
Дедушка, опоздавший на слушания, но видевший это отпущение грехов, обронил с оттенком тщеты,:
– Достигать всеобщего равенства при помощи убийств?
Отозвался Троцкий:
– Конечно! – И с присущей крупному политическому деятелю авторитетностью обогатил утверждение россыпью фактов: – В России – когда устранили Александра Второго и Николая Второго, в Америке – когда укокошили президента Линкольна и президента Кеннеди, в Камбожде – призвав во власть Пол Пота, в Румынии, где восставшие массы растерзали Чаушеску…
Судья не позволил завязать дискуссию:
– Давайте без концептуального затуманивания!
Убиенный Столыпин, приглашенный к разговору в качестве безвинно пострадавшего, выдвинул тезис: пребывание в раю покупается (ведь покупается?) мздой отнятой жизни, с какой стати его не пускают в нирвану?
– Я отлучен, хотя делал то же, что благоденствующий ныне Сталин: уничтожал врагов, правда, в меньших объемах, чем Иосиф Виссарионович, это моя недоработка, если б вешал веселее и больше, остался бы вне критки, но в мое время миллионные репрессии еще не вошли в обиход, нельзя ставить мне в вину, исходя из тогдашних реалий, единичные вивисекции. Я заслужил рай и земную мраморную усыпальницу!
– И ведь добьется, – шепнул Антону дедушка. – Иницирует вопрос об отливке памятника в свою честь! Сталина из мавзолея выкинут, усатые статуи поубирают, а бородатому Столыпину – воздвигнут!
Не выторговав для себя местечко в мраморном павильоне на Красной площади, премьер-министр покинул вече, за ним увязался Панюшкин, который упрашивал:
– Ну, чпокнул я тебя, не мелочись, прости, как прощал Христос!
Когда они удалились, к присяге был приведен медведеподобный великан в расшитом золотом мундире. Он поклялся на Библии говорить правду. Антон не сразу опознал его:
– Александр Третий?
– Он самый. Все равны перед Небесным Уставом, – спафосничал (сам понимая, что лукавит) дедушка. Не без горделивой стыдливости, он внес поправку: – Судьбоопределяющее делопроизводство требует неукоснительной объективности.
Прокурор и верно не пиететничал с подследственным:
– Поезд, в котором вы ехали, сполз под откос. Вы и ваша семья уцелели. Но – чудом ли? Если задуматься, откроется: вам даровали время для исправления ошибок. Неужели не поняли? Влюбившись в будущую свою жену, невесту вашего брата Георгия, вы отравили его. И продолжили как ни в чем не бывало вести паразитический, мещански пошлый образ жизни.
Детина с властным лицом и повелевающими манерами дрожал:
– Георгий был рожден любовницей моего отца. Глупой женщиной. Он мог занять престол!
– Коли он родился, была воля Божья! Все цари перед Богом одинаковы!
В лапищах громилы сверкал осколок зеркала, которое показывало эшафот с шестью виселицами.
– Желябова за то, что покушался на жизнь монарха, вздергивали шесть раз, – объяснил Антону дедушка. – Кибальчича – четыре. Палач нервничал, веревки рвались, казнимые падали, их вешали снова.
Царь просил:
– Позвольте избавиться от экрана! Разбить и выбросить…
– Нет, смотри! – велел судья. – Согласно нормативам обязан был миловать тех, кто сорвался…
Громила хныкал:
– Такой же зеркальный осколок сводит с ума моего деда, Николая Павловича Первого, ему показывают казнь декабристов…
В зал, прихрамывая, вошел высокий красавец, за ним стелился кровавый след. Светлый лик облагораживала кроткая улыбка.
– Хватит убийств, – произнес он. – Наша семья в них погрязла.
Зрительская клоака зашелестела:
– Освободитель… Освободитель…
Пристыженный Александр Александрович Третий старался не смотреть на истекавшего кровью отца. Александр Взорванный, сияя эполетами, остановился у барьера, отделявшего судей от подсудимых:
– Не могу свидетельствовать против сына. Тем более, он тоже умер досрочно. Да, он – виновник и причина моей гибели. Но…
– Не требуете отмщения? – хотел удостовериться прокурор.
– Я, Александр Второй, прощаю Александра Третьего. Чаша закланий, учиненных нашей династией, переполнена. Мой дядя, брат моего отца, убил своего отца, меня убил мой сын… Наш род проклят. Только прощением отменяется проклятие.
Вымолвив это, пресветлый император покинул сборище. Детина-наследник крикнул вслед отцу:
– Значит, обвинения с меня долой?
– Не вам, а нам решать! – срезал Александра Александровича судебный пристав.
Громадного Александра Александровича сменил у подразумеваемого позорного столба его прадед Николай Первый.
– Зачем срыл церковь Иоанна Предтечи в кремлевском дворике? – подступил к нему обвинитель с розовыми, как у фламинго, крыльями. – Семь веков стояла неколебимо, а тебе, вишь, заслонила панораму! Господь, навещая Москву, любил в той церквушке отдохнуть, а ты в Москве бывал раз в пять лет, в кремлевском кабинете того реже! А еще покусился на Алексеевский девичий монастырь, сослал его, вкупе с храмом Преображения Господня, в Красное Село. Игуменья Клавдия прокляла расчищенную под строительство храма Христа-Спасителя площадку, чем обрекла храм Спасителя на уничтожение! Но в истоке ее проклятия – ты!
Царь краснел, бледнел, лебезил:
– Если б мог предположить… Что через сто лет после закладки его взорвут…
– Ты, болван, принял алмаз от принца Хозрева-Мирзы – в уплату за убийство Александра Грибоедова и всей русской миссии! Променял жизнь подданных на караты!
– Я не мог не взять откуп! Добивался утишения межгосударственной вражды! – Было видно: царь мечтает отбодаться и уйти.
Но его не отпускали.
– Ну, и простил бы Мирзу – за изрубленных в крошево! – без циничного торгашества. Этот политый кровью алмаз по сию пору терзает и позорит Русь. Вот и длятся русские беды! Не прими ты жуткое подношение, не пополни им державную сокровищницу, и не оказало бы пагубного воздействия на Россию!
Угодил в попрекаемые и трефово-смоляной Борис Годунов.
– Не убивал я Дмитрия! – отмуторивался он. – Есть свидетели из Углича: царевич сам упал на нож.
– Вами нанятые и запуганные, – подъялдыкивал прокурор.
– Если он убит, то поделом! – возбух Годунов. – Был изверг, вешал собак, до полусмерти колошматил своих ровесников…
– То есть мало чем отличался от тебя? – продолжал глумление распрашивальщик.
Годунов не менял оборонительную тактику:
– Взойди он на престол – что стало бы с любимой родиной? Я хотел искоренить традицию убивать.
Дедушка невесело усмехнулся:
– Ох, уж эти либералы задним числом и вчерашним умом... А в период правления – душители… Годунов был женат на дочери Малюты Скуратова. Только периоды революционного баламутства отменяют династические браки: мужей и жен выбирают по прихоти чувств, потом опять наступает кастовый и кадастровый кастинг.
Императрица Екатерина Великая изъяснялась кокетливо:
– В России жить – по-русски выть! – Ее пышные кучерявые букли походили на задорные девчоночьи косички: – Я потихоньку упраздняла крепостное право, внедряла гражданские свободы! Но реформы никому не нужны: окружения готовилось меня удавить!
– Как вы – мужа! – поддел ее судья.
Императрица бровью не повела:
– Русский прогресс на европейский или американизированный манер возможны только с оглядкой на седую старину «Домостроя». Граф Уваров был ярый проевропеец, но сочинил триаду: «Правослаие, самодержавие, народность». Фрейд отметил шизофреническую раздвоенность русского сознания. Какие еще свидетельства правильности моих нововведений нужны, если меня письменно признали самой просвещенной прелестницей своего времени Вольтер и Дидро?
– Вы приподняли Россию политически, это верно, но произошло это после того, как убили мужа, Петра Третьего, – остался непреклонен судья. – А еще издали антинародный указ, запретив крестьянам жаловаться на помещиков, кто пожалуется – того на каторгу…. – И обратился к свидетелю, литератору Достоевскому: – Федор Михайлович, в одной из книг вы пишете: не построить счастье на слезе ребенка. А на убийстве мужа и растоптанных крестьянах – можно?
Литератор, напряженно покумекав, вывел верноподданическое среднеарифметическое:
– Если в интересах России надо убить, приходится убивать, а как иначе?
Екатерина, шурша оборками широченного платья, почти вальсировала перед строгим ареопагом:
– Ну, убила муженька – своего, не чужого. Что хочу, то со своим мужем ворочу. Как Юсупов или Николай Николаевич с собаками. К тому же не собственными руками убила. Я чиста.
Антон вмешался:
– Не достигнуть блага, убивая!
(Много позже он и Сталину, и Гитлеру вменил тот же тезис.) От Екатерины получил исчерпывающую интродукцию:
– Лишь не любя народ, можно им управлять. Так правили Петр Первый и Иван Грозный. Я, иностранка, вижу Россию лучше русских. Русский народ излишне мечтателен. Я не позволила итальянцам провести придуманную ими для облапошивания русских лотерею, не позволила немцам и евреям открыть мануфактуры, которые поработили бы русских…
Не добившись раскаяния царицы-вертихвостки, синклит принялся обсуждать правомерность обзаведения ею бесчисленными фаворитами. Императрица капризно топала каблучками расшитых жемчугом черевичек.
– Неблагордно совать нос в женские трусики!
Она отбивала нетерпеливую чечетку и довела присутствющих до исступления. Свиристелку предписали отбывать наказание в павлиниьем вольере.
К белому роялю, на дно оркестровой воздушной ямы, был приглашен подавший очередную апелляционную петицию композитор Сальери.
– Мною сочинена оратория «Страшный суд», где воспевается ваша, господа судьи, необходимейшая деятельность, я автор духовных шедевров «Иисус в чистилище» и «Страсти Господа нашего Иисуса Христа», – фабрился, ожидая решения в свою пользу, оболганный мелодист. И вопрошал: – В чем моя вина? В том, что я добротный ремесленник, а не ветреник? Но ремесленники нужны в любой профессии, да и не был я рутинным поденщиком, творил по вдохновению, Европа мне рукоплескала. В голову не приходило никого травить. Тем паче Моцарта! Он ходил за мной по пятам – обаяшка, пупс, мопс… Это было: как отравить болонку…
Судьи не впали в разнобой:
– Общепринятые краеугольности неколебимы: Бог создал Землю, Каин убил Авеля, Сальери отравил Моцарта – на этих китах покоится незыблемость. Вышиби их из человечества – и выбьешь скамейку у него из-под ног. А вдруг подоспеет помилование? Пока у приговоренного к повешенью есть шанс спастись, нельзя вышибать скамейку. Имеется и дополнительная закавыка: ты, Сальери, пытался свести счеты с жизнью. При твоем-то благополучии? Косвенно это доказывает: тебя что-то мучило, ты переживал… Из-за содеянного.
– Я умер в лечебнице для умалишенных! Я не отдавал отчет в том, что творю! Пока был в здравом рассудке, я не хотел себя порешить! И твердо помню: я не убивал! – Отчаявшись переубедить беспристрастцев, Сальери умоляюще взирал на Антона: – Я – Антонио, ты – Антон, мы тезки. Истреби несправедливость!
Излагать так складно, как Явился-не-Запылился, Антон не умел. Судьи вяло отбрехивались:
– Наказание Сальери минимально: не в олифе, канифоли и скипидаре мокнуть, а сыграть разок-другой в рок-группе на фестивале хэви-металл. Ему и это в тягость. Цепляется за прошлое. А нас заботит будущее: глядя на Сальери, завистникам неповадно никого травить. В любом случае, кассации – при рассмотрении исков, где наравне с фактически имевшими место событиями, фигурируют зыбко неуловимые, отвлеченно неконкретные и не подшиваемые сюжеты книг, жития святых и биографии выдающихся живописцев и архитекторов – не могут претендовать на удовлетворение.
Антону оставалось лишь утешительствовать:
– Окаменевший или обронзовевший миф – пошлость. Нелепы ипостасти-позы на выспренних постаментах, они увековечивают не подвижников-колоссов (то есть – не великие прототипы!), а измельчавшие представления о них! В вашем случае, глядя на монумент, будут повторять: отравитель.
Сальери такое, конечно, не устраивало. Но охолониться он не мог:
– Деньги тоже пошлы. Но от них не отказываются. Ордена – оскорбительно, вызывающе примитивны. Однако их побрякушечной расхожести никто не бежит, напротив, за ними гоняются. Узаконенной пошлостью воздают даже за авангардистские прорывы! Но сам авангардизм, если вдуматься, куда как пошл: повторение – раз за разом – затверженного новаторства… Что банальнее можно изобрести? Подоплека ясна: пустоцветы рихтуют украшательствами свою бездарность. Но гениев нельзя обделять поощрением, нужно учредить для них нешаблонные регалии!
Дедушка приветствовал любые формы ангажированности и вознагражденности искусством:
– Борения духа Верди, Джойса, Тинторетто, Пруста, Бакста, Льва Толстого изменили мир! Земля – в громадной системе взаимосвязанных планет – выполняет назначение библиотеки и картинной галереи. Умнейшие фолианты спрессованы в бессчетных хранилищах, грандиозные полотна и скульптуры в туне пылятся в музейных запасниках! Должно использовать каждый шанс для расширения кругозора. А люди разбазаривают, а то и уничтожают непревзойденные шедевры. Хорошо, что в Божью Копилку поступают дубликаты созданных вершителями человеческого духа творений!
Однако, согласно дедушкиной градации, не каждому (в том числе отмеченному печатью выдающести) кустарно-рукотворному или заводской (полиграфической) формовки явлению культуры следовало присваивать сертификат подлинности: к примеру, душеприказчик писателя Франца Кафки Макс Брод, нарушив завещание своего почившего друга (умирая, Кафка просил: «Уничтожьте мои рукописи!») публиковал не только предназначенные забвению рассказы и повести, но примешивал к ним свои более чем скромные графоманские потуги – вскоре симбиоз новелл и романов покойного и живого авторов сделался чрезвычайно популярен. (Смерть порой бросает преображающий отсвет на прижизненную блеклость). Кощунственной проделкой обманщик не ограничился, а стал распродавать на аукционах якобы артефакты – опять-таки фальсифицированную смесь калейдоскопических опусов. Деньги присваивал и похвалялся: «Я – равен Кафке».
Отец Франца требовал отправить «плагиатора наоборот» (вместе с непонятно кем созданной абракадаброй) в адское пламя. Но снискавший принадлежание парнасской известности (пусть под чужим именем) Брод эпатировал судей:
– Я потихоньку пописывал еще и за Стефана Цвейга… – Посматривая на томик писем Кафки невесте (который Антон принес, чтобы узнать из первоисточника: а эти-то послания Кафка кропал самолично или они тоже – подмена и подлог?), фальшивопечатник адресовался к дедушке: – Вы встречались с Францем в венском кафе и не станете отрицать: он был малограмотен…
Дедушкино заступничество Кафке не потребовалось. Литератор сам прибыл на разбирательство из Поселка Отшельников, где на паях с Сэлинджером арендовал затворнический коттедж.
– Я не отваживался обнародовать свои наброски. Я слишком робок. А Брод их сюжетно огранил, и мое болезненное творчество, пусть с посторонней прибавкой, обрело читателя, – простил он друга.
Явился-не-Запылился, принявший участие в распутывании сложносочиненного казуса-ребуса, не скрывал взволнованность:
– Кафка предрек в романе «Процесс»: вспыхнут суды против людей только потому и за то, что они – люди. И уже за одно это заслуживают наказания. – Явился-не-Запылился обратился к фантасмагористу: – Как жить, ощущая себя жуком, букашкой, которую мнет давильня палачей-надсмотрщиков?
Кафка растерянно улыбался.
– Как с этим жить? Да как всегда. Как раньше. Как теперь. Как потом. Как после средневековья, как при Иване Грозном и концлагерях. Моя сестра погибла в концлагере… Счастливчикам выпадают тихие времена, а несчастливчки расплачиваются за счастливчиков. Удача – если жизнь пришлась на промежуток и передышку, когда жернова не производят человеческий помол, но истончившиеся беззубые молохи заменят новыми, шершавыми…
Глистоподобный эссеист («эссенизатор», назвал его дедушка), поносил Кафку, Пруста, Цвейга а заодно – соотечественника-поэта, чью смерть накликал-состряпал своими грязными заушательствами:
– Предположим, я перегнул палку, но не настрополял вешаться! – отбивался глист. – Мало ли кто какие замечания бросит в чужой огород, что ж, из-за этого стреляться и лезть в петлю? Журя, я выполнял профессиональный долг! И не должен нести ответственность за сумасбродство этого рифмоплета!
Пока он камлал, повесившийся отщепенец горбился на табурете, кадыкастую шею охватывало не без изящества повязанное кашне-лассо. Присяжные под обвисло-немощные руки приподняли самоубийцу, и он открыл обведенные фиолетовыми ободами глаза.
– Ты меня намеренно затравливал, – просипел висельник. – И не эстетическими критериями вдохновлялся, а хлестал политическими ярлыками. Ты – эпигон, тебе не дано созидать, ты можешь лишь пережевывать чужое…
Преткновение складывалось не в пользу суицидника. И все же с формулировкой: «Поэзия – занятие не для слабых, но она не любит злых, а этот по сути участвовал в убийстве» застравливателя сослали на Желтый океан. Глистовая улыбчивость критикана обрела – при оглашении приговора – оттенок завистливой мстительности.
К ответу был призван Александр Блок.
– «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос»! – зачитал секретарь собрания. И обрушился на версификатора. – Чистая неправда! Христос в революции не участвовал!
– Это метафора. Надо отличать полет фантазии от вранья! – с пренебрежительным высокомерием отражал наскоки стихотворец.
Его не оставили безнаказанным:
– Зачем сотрудничал с комиссией Временного правительства по обвинению царя и его приближенных?! Зачем редактировал показания Анны Вырубовой, которые из нее выколачивали силой?! Поэту надо служить музам, а не политике. Любое правительство – временное! А поэзия – вечна! Макнуть бы тебя в котел с прокисшим одеколоном, да ты сам о себе в дневнике накарябал: «Я – гений». С начетранным вынуждены считаться.
Обязали приспешника преступной власти сбрызгиваться по три раза на дню шибающим в нос одеколоном «Тройной».
Досталось на орехи и Владимиру Маяковскому:
– Зачем расписал о несчастных собаках, оказавшихся на улице после того, как их хозяев расстреляли: «Это не собачья глушь, а собачья столица»? Нашел чем восхищаться! В шкуру бездомной шавки его!
Сторицей и здравицей воздали за перенесенные в земных условиях тяготы знакомому Антону по газетным фельетонам священнику Глебу Якунину.
– Воровство воровству рознь, – расхваливали судьи свободолюбца в рясе, приговоренного за верность Господу к уголовному заключению и ссылке. Явился-не-Запылился, выступавший адвокатом архистратига православия, рассказал, как опальный изгой церкви, доставленный на проработку в богоборческий Совет по делам религий в Неопалимовский переулок («Где еще располагаться антибожественной конторе, если не на выхолощенной монастырской улице!» – заметил дедушка), умыкнул из начальственного кабинета секретный циркуляр – регламентацию искоренения в СССР христианства, мусульманства и буддизма.
Тем, кто не ведал подробностей этого акта мужества, судьи (облекшись амплуа учителей начальной школы) советовали:
– Ступайте на курсы самообразования! Учитесь у Якунина противостоянию мракобесам-чинодралам! Сдадите экзамен, и ваш приговор будет пересмотрен с оправдательнам апострофом .
Смешного поддергивателя штанов, нарекшегося пристебайской кличкой «Явился-не-Запылился», связывали с дедушкой странные, исполненные тайного смысла отношения. Порой Антон перехватывал загадочные взгляды, которыми обменивались эти двое, ловил и пытался истолковать многосодержательную интонационную палитру их бесед (или причину долгого молчания: недосказанность иной раз сообщит о говорильщике больше, чем словоизвержение).
В полутемных, затянутых паутиной подсобках и заброшенных затрапезных гостиничных номерах дедушка и Явился-не-Запылился сводили Антона с примелькавшимися в повторяющихся снах незнакомцами.
– Преже, чем упрочиться в пантеонах-инкубаторах, приходится еще как колготиться на небесных перепутьях, – просвещал внука дедушка. – Нужно вдосталь времени, чтобы осознать допущенное тобою зло. У тех, кто дожил до старости, сроки самобичевания длиннее.
– Для пущей надежности даруется бессонница, – подхватывал Явился-не-Запылился. – Пока ворочаешься с боку на бок, чего только не вспомнишь, о чем не посожалеешь! Да и сновидения – не случайны и не пусты, а льют воду на мельницу раскаяния.
Процесс, в котором Явился-не-Запылился оппонировал поклепщику в пронафталиненном двубортном пиджаке, захватил Антона.
– Повинны в тягчайшем! – Длинным, как школьная указка, носоклювом пронафталиненный долбил симпатичных молодых парней.
Явился-не-Запылился не давал нарушителей в обиду:
– В чем их вина? Встречались в парках и на квартирах, шутили… Шутить не запрещено. Веселились перед отправкой на фронт. Молодость есть молодость… Им, возможно, предстояло погибнуть… Вот и духарились напоследок.
Пронафталиненный чуял своим носярой куда более глубоко залегающие пласты:
– Обмозговывали злодейский план… И прекрасно знали: особняк на Малой Никитской находится в зоне повышенной охраняемости. Но приблизились поздней ночью…
– К высоченной стене, из-за которой сквозь деревья тускло мерцал мертвенный дом. Из ворот по утрам выезжала, а вечером сюда же въезжала черная машина с пассажиром в мятой шляпе, – высокопарничая, пародировал суконную речь пронафталиненного отвязный Явился-не-Запылился.
Пронафталиненный не выбивался из рамок тягучей канцелярщины:
– Орудуя стамеской и отверткой, бесшумно свинитили массивную медную ручку с двери караульного поста…
– Не было этого! Им приписали! – вскрикивал раненой птицей Явился-не-Запылился.
– Выковыряли из двери замок… – сличал перечень подлежащих наказанию поступков с параграфами лежавшего перед ним Кодекса заунывный клевака.
– Они лишь спросили извозчика, скучавшего на Садовом кольце: «Свободен?»… Он ответил: «Свободен». Друзья пошли по улице, выкрикивая: «Да здравствует свобода!». Им казалось это смешным… И мне не кажется преступным. Баловство. Шалость! – трактовал Явился-не-Запылился.
– Провокация! В общественном месте! Близ площади Восстания! – будто булыжниками швырялся двубортный.
– Возле погрузившегося в сон мертвенного особняка и нашпигованного охраной дворика, – снижал вес упреков Явился-не-Запылился. – В этом дело. На окраине Москвы их не тронули бы.
– В данном случае закончилось плачевно: извозчик и двое прохожих, начальник караула и дежурные охранники были брошены в тюрьму! Поплатился комендант!
– За что? – вопрошал ненастоящий Негодяй.
– За то, что допустили демонстрацию и за порчу имущества! Крикуны не случайно оказались возле жилища Берии! – долдонил негодяй подлинный.
– Откуда друзьям было знать, что пострадают невинные? – вмешался дедушка.
– Должны предвидеть, все всегда надо предвидеть, – мягко стелил двубортный. – За их, как изволил выразиться ваш соадвокат, баловство, – использовал он, по-видимому, испытанный в полемической практике прием цепляния к обмолвкам, – наказали еще и плотника, уборщицу и повара. Стало ясно: в недрах особняка сплетен заговор против Лаврентия Павловича. У начальника охраны, повара, плотника и уборщицы остались дети.
– Мучительно это сознавать, – признал Явился-не-Запылился. – Но злого умысла, повторюсь, у моих подзащитных не было. Они не сознавали, в какое жуткое время им выпало жить!
– Помочь детишкам, оставшимся без родителей, уже нельзя? – спросил Антон.
– Не надо помогать, – ответил дедушка. – Детишки, сперва их определили в приют, вышли в люди, состоялись в своих профессиях, создали семьи. Эпоха Берии закончилась.
– Сейчас, наверно, скажете: «Останься родители в живых, и избаловали бы свое потомство. К лучшему, что коменданта и плотника сослали»! – инквизиторски истязал дедушку и Антона пронафталиненный.
Дедушка вздохнул:
– Так я не скажу. Я скажу: «Подумать только: надругаться над дверью особняка самого Берии!». Конечно, за это надо расквитаться по высшей мере!
Антону он позже объяснил:
– Двубортный обвинитель нанят Берией. Это тот самый Виппер, что был прокурором на процессе Бейлиса. Он и здесь нарасхват. Ушлый, скользкий, на все готовый! Не отцепится, пока не пригвоздит.
– Обвинителей нанимают? – в который разь впал в оторопь Антон. – И судьи покупаются?
Он угадал.
Привели мужчину с тяжеленным вертлявым задом, шерстяные брюки в полоску, обтягивая сочные ягодицы, держались на синих помочах.
– Вы подписали смертный приговор коменданту особняка, извозчику, прохожим… И еще – повару и плотнику. Уж не говоря о многих тысячах никогда не виденных вами людей! Чем руководствовались? – приступил к дознанию Явился-не-Запылился.
Толстозадый скулил:
– У меня некрасивая фигура. Все смеялись надо мной, прозвали «чугунной задницей». Я приучился играть ягодицами, чтоб доказать: задница – живая, а не монолитно-неподвижная…
Дедушка на ухо сообщил Антону: это – многолетний подручный Сталина, председатель Совета министров Вячеслав Молотов. Он и Берия первыми подписывали расстрельные приказания. И прибавил:
– Не всем везет зваться «Явился-не-Запылился», «Неудачником», «Негодяем».
– В молодости я был Скрябиным, – скорбел толстозадый. – Псевдоним «Молотов» взял не для того, чтобы изменить судьбу, а чтобы соответствовать гербастым серпу и молоту. Женился на еврейке по имени Перла, то есть Жемчужина, многие руководители женились на еврейках. Жемчужина действительно оказалась сокровищем, моя карьера – пошла в гору.
Прокурор посчитал необходимым снизил пафос отчета об успехах:
– Хрупкая Жемчужина отмаяла срок в заключении, а вы, ее супруг, джентльмен, министр иностранных дел, позволили ее арестовать!
Молотов оспорил:
– Не такая хрупкая она была. Настоящая революционерка. Боевая подруга! – Но сник, опустил плечи, черепашьи втянул проплешистую голову. Еле слышно пролепетал, прячась за ангела-конвоира: – Надо было выбирать – либо сгнить, угодить под пулю в расцвете сил, либо всего лишь подписывать приговоры и процветать. Я выбрал второе. А вы бы что выбрали?
Судьи не опустились до риторических обмусоливаний, их враждебная необщительность вынудила обвиняемого продолжить:
– На семейном совете Жемчужина постановила: тирану не перечить. Иначе не стало бы нас двоих: меня и ее. Жена была умнее меня. Решала, как я должен себя вести. Она в прошлой жизни была Юдифью, той самой, что отрубила голову Олоферну. Но Сталин сам рубил напропалую, направо и налево… Да и не был это в полной мере арест, Сталин, как в детской считалочке, баловался: «Буду резать, буду бить, а тебе сейчас водить…». Нельзя нарушить правила детской игры! Он нас испытывал, как Бог испытывал Иова.
– Не равняйте Сталина с Богом! – сделал замечение Молотову вершитель правосудия. – А себя – с Иовом. Тоже мне толстозадый Иов! – И констатировал: – Собственные ошибки признать отказываетесь?
Молотов хрюкал:
– Надо было выжить. Любой ценой…
– То есть: на остальных плевать? Эх, вы, руководитель великой державы! – судья не скрывал презрения. – О простых людях надо заботиться, о недалеких, вверенных вам и верящих вам людях, а о себе – в последнюю очередь!
Явился-не-Запылился дополнил:
– В ту ночь из змеежабской опочивальни Берии сбежала его любимая наложница… Такое не прощается. Вот и впаяли охранникам, повару, извозчику и завхозу по первое число. Приписали моим подзащитным взлом замка. На самом деле Евфросинья ушла из дома сама и беспрепятственно. Охрана тирана заснула и не слышала горланивших на улице молодцов…
– Поделом наказали всех преступников! – объявил пронафталилненный. – Кемарить на посту не положено!
Антон предположил:
– Может, Берия и сегодня опасается, что ребята, которых сейчас судят, проникнут в Скрытый рай и взломают дверь его теперешнего особняка? Наверняка он благоденствует где-нибудь поблизости от Гитлера…
Толстозад (являвший собой жалкое зрелище) обеспокоился:
– Адрес нынешнего моего проживания открывать запрещаю!
Судья заверил:
– Нам известна директива неразглашения, инструкцию не нарушим. – И цыкнул на расшумевшуюся наполнявшую зал публику. – Не буянить, долболобы! – Совсем ласково судья закончил: – Не тревожьтесь, Вячеслав Михайлович, вы в безопасности.
После заседания поддергиватель штанов подошел к Антону.
– Я – негодяй, – начал он, – хотя бы потому, что не умею отспорить невиновность невиновных и доказать виноватость виноватых. А еще – потому что вовлек тебя в похоронны 31-го декабря, Ну и выпало тебе веселье под Новый год! Все глушат шампанское и хохочут, а тебя, юного сотрудника, отрядили провожать скончавшегося меня. Ты меня не бросил, не отказался смотаться в крематорские интерьеры. Хотя меня не знал. Я уволился из редакции задолго до твоего зачисления в штат. Тебя ждала девушка, вы должны были ехать за город, к друзьям. Но проводы неведомого меня удручили тебя настолько, что ты не поехал к девушке, пришел домой и лег лицом к стене. Парадокс: я умер в морозы, а тело не заморозили. Гроб наклонился, из носа хлынула кровь. Или лимфа?
Оборвав монолог, Негодяй бросился к отрешенно шагавшему (судя по шинели – из ХIХ века) полоумцу, который сеял вокруг себя скомканные, рыжие от давности бумажки. Явился-не-Запылился их поднял (так собирают в лукошко грибы-лисчички) и вернул никого не замечавшему отрешенцу.
– Это – отец поэта Лермонтова, – пояснил доброхот Антону. – Умер, как и я, нестарым, перед кончиной обещал сыну молиться о нем близ Престола Господа, да отвлекся – натура он отвлекающаяся и увлекающаяся! – причем именно в тот миг, когда назрела дуэль. Проморгал трагическую развязку, и сына убили. Теперь рассылает челобитные, просит возобновить минуту недогляда и невнимательности, чтоб случившееся исправить. Дескать: гора Машук заслонила происходившее. Я ходатайствую по нескольким схожим делам. Ищу спасение для поэта Есенина и поэта Гумилева… Если получится, убийство Лермонтова и Гумилева признают недействительными.
– Всюду успеваете… Как вам удается? – не вполне искренне и почти неприязненно скомплиментарничал Антон, ему мнилось: самокритикуясь, Явился-не-Запылился испрашивает похвалу.
– Добиться изменения чьей-либо участи крайне сложно, –взгрустнул тот. – Но я обязан отработать, компенсировать чуткость, которой незаслуженно удостаивался. За что мне выпала такая забота? Я – проныра и темнила… Лгун и скаред… Сосед по лестничной площадке всего-то и просил прочесть его диссер. О твердых сплавах. А я не осилил, не дочитал. Но похвалил. То есть соврал. – Явился-не-Запылился тараторил, убыстряя выброс слов, уже не раздумчивых, а стрекочуще-пулеметных. – Нет мне прощения! Мой близкий друг спивался. Я возил его к знахарям. Оберегал от компаний, где наливали… Он рвался в эти компании. Я обманывал женщину, его любившую. Обещал ей несбыточное. Излечение. А оно в его случае было невозможно. Возжелал помочь родственнице, она лежала в больнице, никто ее не навещал… Мое внимание к ней было воспринято попыткой завладеть ее наследством... Досаждавший мне подлец занимал высокое положение, его охраняла стража. Я придумал… На одном из раутов, куда не принято приходить с секьюрити (если все приведут вооруженную рать, не останется места для приглашенных), очутившись нос к носу с мерзавцем, я бросил на пол свой бумажник и влепил подлецу пощечину. Закричал: «Он хотел вытащить у меня деньги!». Это было наивно и глупо...
Смешной поддергиватель штанов закончил клоунствовать:
– И вот я предстал перед Высшим Судом. Мне сказали: «Ты жил во лжи и недостоин прощения». Но я нашел себе применение. Здесь хватает незаслуженно обиженных и незаслуженно обласканных. С неугодными сводят счеты. А от несправедливо обласканных исходят вредные рекомендации – выдвигать во властители гитлеров и сталиных. Не вергилиев и данте, не чеховых и есениных… По дурости и принудительно люди исполняют эти наказы.
– Смерть детишек Веры Чеберяковой... И гибель Андрюши Ющинского? Эти дела дослушиваются, доразбираются? Пытаются ли привлечь к ответу убийц? Ведь на земле их так и не нашли! –спросил Антон.
– Убийц объединяет могучий синдикат, – признал солидарно с дедушкой Явился-не-Запылился. – Свою прислугу Гитлер нанял как раз из числа убийц Андрюши… Они способны оказывать давление на судей.
– Какой тогда прок от небесного Устава? – вознегодовал Антон.
Явился-не-Запылился развел руками:
– Спасти ситуацию поможет Господь. Перед Высшим Помилователем каждое преступление предстает незамутненно очевидным. Отклонение от очистительного вектора усилилось из-за отсрочки смерти Льва Толстого. Распутин перетасовал годы, желая продлить дни великого яснополянца, но попытки изменить что-либо к лучшему зачастую уводят от правильности. С тех пор передержки лишь накапливаются. Нехорошо, если кому-то разрешено непозволительное....
ТАБОР
Евфросинья изводила себя: как случилось, что она – честная, неглупая, на хорошем счету у Кузьмы Самсонова – переметнулась в досаждавшую его победоносному, овеянному славой заградотряду цыганскую общину? Опустилась до дезертирства и контрабандных махинаций, беспринципно предала сплоченное, образцово вышколенное подразделение!
Стали в тягость облавы, засады, нескончаемые рейды-оцепления, обыски и хватание с поличным жалких спекулей. Пикнуть в защиту пойманных оборванцев строжайше не допускалось, Кузьма был неколебим: двурушники-оборотни – опаснее военных интервентов, прямолинейный противник-милитарист не притворяется, прет напролом (чем вызывает уважение: сила силу ломит!)), а коварно вихляюще-петляющий, прикидывающийся безобидным вредитель подтачивает основы исподишка: «Помнишь, Фрося, из-за поганого короеда, оголившего лес, гитлеровцы нас чуть не обнаружили?».
Вымуштрованное войско Кузьмы отличала непререкаемая (аж противно делалось) субординация: младшие по званию стелились перед старшими, облеченные властью начальники поощряли покладистых подчиненных. Дележ добычи согласно иерархическому принципу: кто повелевает, тот присваивает больший куш, намертво сцементировал нерасторжимую круговую поруку.
Кузьма без стеснения залучал соратницу в Долину Котлов, к купальне очкастого тирана: курируя свиданиях бывшей наложницы с отвратительным до мурашек поневоле-сожителем, мозолил глаза когтистому стервятнику, из-за чего сподвижники командира-партизана люто невзлюбили новенькую и всеми правдами и неправдами подрывали ее привелигированное положение. Дальновидный Кузьма прямодушно объяснял подручным: Лаврентий Павлович лишь временно впал в немилость и варится наравне с второразрядной шушерой, кончится опала – и выдающийся руководитель вернется на главенствующий пост и продолжит разить врага.
– Может, станет командующим над всеми нами, – рассуждал Кузьма. – Он – признанный стратег и практик: сколько хорошего натворил! Сотни заводов выстроил, курировал ядерный проект, а если допускал перегибы в борьбе с отщепенцами, так это плюс, мы тоже нещадно боремся с диверсантами… О нашем отряде Лаврентий Павлович доложит самому генералиссимусу Сталину!
Притороченность к гарнизону (и остобрыдшему бериевскому котлу) сужала, а не расширяла, как поначалу надеялась Евфросинья, возможность поиска Федора, мамы, бабушки. Цыганская вольница, напротив, способствовала обшариванию дальних укромных уголков, куда Кузьма соваться не помышлял («Ибо есть закрытые для посторонних посещений зоны, порядок надо уважать!»).
Взбалмошное, не подотчетное никому племя странствовало – по влечению души – где вздумается, в единый миг снималось со стоянки и ударялось в приключения вопреки запретительным табличкам: «Ходу нет!», «Частное владение!», «За нарушение – штраф!»; танцевало и пело до упаду (без повода для праздника), такой загульности Евфросинье недоставало в прежних постных скитаниях; проливало горькие слезы (посреди прибауток и смеха); прирожденные пилигримы не загадывали финала долгого ли, короткого ли пути, не преследовали корысти, не поклонялись идолу выгоды и пользы.
К Евфросинье вернулось (она почти забыла о нем!) утраченное призвание – убаюкивать младенцев и ухаживать за недужившими взрослыми, варить снадобья в больших кастрюлях, сочинять сказки – о перелетном госпитале, райских птицах и Теплом камне на пустыре. Зататив дыхание, впитывала легенды, которыми обменивались дети и старики: о далеком прошлом загорелого курчавого выводка, его исходе из Индии, переездах и переплытиях из страны в страну, с континента на континент – дабы прельстить примером безбарьерности порабощенных обжорством и голодом, чадом фабричных цехов и роскошью обнесенных рвами замков неподвижцев. Предания о преимуществах босоногости и кибиточной колесящести по бескрайним просторам звали в безоглядное путешествие...
Некоторые цыганки были наголо обриты (а мужские шевелюры – вились длиннющими прядями): своих причесок и густых смоляных волос красавицы лишились в парикмахерской лагеря Треблинка, где после цирюльнического священнодейства прошли удушение газом в похожих на банные облицованных кафелем кабинах. Рассказывая об этом ярчайшем эпизоде, женщины блаженно улыбались:
– Нас обслуживали наимоднейшие салонные мастера! С нами обращались как с богатыми леди, усадили в кресла в чудесном светлом здании, никогда такой прелести не видовали…
За принцессой табора, танцовщицей Гитаной, неотступно ковылял неуклюжий мальчик, крепко сшитый крупными стежками толстых ниток: воссоединительную операцию произвела и сделала тело ребенка целехоньким дочь цыганского барона Гнеуша – Рада (имя не дезориентировало, а прямо указывало: всем вокруг эта девушка приносит утешение).
– Ребеночка Гитаны разорвали сторожевые овчарки, но это лучше, чем если бы над малышом эксперментировали гитлеровские экзекуторы-врачи, – делилась Рада с Евфросиньей. – Теперь не отпускаем от себя кроху: ныне детей похищают, чтоб разодрать на запчасти для транасплантации.
Гитана то причитала, то безудержно хохотала:
– Мой сынок навсегда со мной!
Муж Гитаны, герой еврейского народа Янкель Кацман, в течение долгого срока защищавший безалаберных таборников от притеснителей (коих всегда и везде тьма тьмущая – взбешенных чужой независимостью и жаждущих неподчиненцев подмять и взнуздать), ушел на фронт сражаться с фашистами и погиб. Множество дорог исходила с той поры горластая шебутная артель. И всюду, где устраивала привал, возжигала в память о Янкеле (которого наградила прозвищем: «биболдо») большой костер: вдруг канувший друг узреет пламя и вернется? Ведь обещал не забывать Гитану!
Сделавшаяся товаркой беспокойной Евфросиньи (и колыбельно напророчившая десятилетнему Шимону посещение Небесной Читальни, а еврейскому и цыганскому народам – исчезновение) старуха Роза признавалась:
– На Крещатике я не хотела предрекать плохое. Но Шимон – из тех, кому дано воздействовать на события…
Роза помнила гражданскую войну и социалистическую революцию:
– Если б не Янкель, мы бы не спаслись! Вместе с Янкелем прибился и кочевал с нами внук Шимона, Александр. Рисовал всех, кого встречал, – на оберточной бумаге, бересте. Не мог уснуть ни на минуту. Чудесной бессоницей наградили его Господь и родной отец – Пинхас Фиалковский. От Александра понесла молоденькая Груня. Их ребеночек жив и обретается на земле.
Александр приходил в табор со своим юным приятелем, начинающим бухгалтером Мойшей Сегалом, сменившим впоследствии скучную профессию счетовода на художническую кисть и сделавшимся всемирно знаменитым живописцем Марком Шагалом – этот добрейший и очень простой в общении обладатель ангельских крыльев, которыми хотел наделить всех людей, продолжал наведываться к Розе, предсказавшей в давние-предавние годы: его сердце перестанет биться в полете.
– Так и вышло: я умер в парижском лифте. В парении, – восхищался прозорливостью гадалки Шагал и, тренируя неутомимость гибких пальцев, наполнял альбомы сделанными карандашом и кистью колоритнейшими эскизами будущих полотен. Выявив неглубину познаний Евфросиньи о Петрове-Водкине, Филонове и мастерах Возрождения, он взялся натаскивать ее к экзаменам на аттестат райской зрелости. Евфросинье нравились такие занятия. А Шагалу не терпелось дождаться запропастившегося Янкеля Кацмана, чтобы запечатлеть уважаемого «биболдо» для Галереи Незабываемых Лиц (в Музее Орвелла экспозиции были отведены первый и второй этажи).
Серию уже вывешанных там портретов открывал экспрессивно перенесенный на холст образ печально-улыбчивого Дмитрия Ангельева – директора совхоза-миллионера (с золотой звездой Героя Социалистического труда на лацкане отутюженного пиджака).
– Моя фамилия указывает: должен был ангельски служить Богу, – исповедовался Шагалу Ангельев. – Долгое время так и получалось: рос бездомным, недоедал, ночевал в стогах, купался в теплых реках и ливнях. Но будто кто-то в бок толкнул и заставил подлаживаться под богатство и сытость. Из кожи лез, чтоб забылось мое цыганское происхождение. Так хотелось стать хозяином над вскормившими меня Сальскими степями. А когда стал, глянул в зеркало и обомлел: превратился в денежного воротилу! – Произнеся это, красивый, как Апполон, Ангельев смялся в скукоженную гармошку, словно от сильной внутренней боли. – Я вырвался из государственной воровской банды. Убежал в никуда. И опять ночевал в стогах... Меня арестовали.
– Читала о вашем совхозе и о вскрывшихся приписках в газетах, – посочувствовала Ангельеву Евфросинья. – Неужто жирели благодаря обману?
Загорелое лицо Ангельева осталось улыбчивым, но на золотистых, женственно выгнутых ресницах набухли слезы.
– За спиной смеялись: вороватый цыган! Торгует надувательством! Цыганам не привыкать надувать лошадей и сограждан! Мой совхоз много и честно работал! – с горечью промолвил он. – Ради чего я отказался от завета предков: не идти в услужение? В тюрьме я взрезал вены, – закончил свой рассказ он.
От Ангельева и Розы стало известно: Муса Джалиль нередко навещал табор. Но давно не появлялся.
– Он нагрянет. Обожди. Муса из наших, – говорили цыгане. – Все свободолюбцы – одна семья.
Евфросинья набивалась:
– Раз Муса не приходит, айда к нему! Мой Федор обожал его стихи.
Ее – посвежевшую, помолодевшую – манили дальние вылазки: на нехоженных тропах и в запретных резервациях можно (помимо близких) встретить князя и великого князя и – вызволить у ворюг заветный крестик!
Однако, сотаборники не признавали загодя намеченных маршрутов, не умели и не желали взваливать на себя обязательства, избегали совмещать рациональность и расстояния:
– Чтобы попасть в Поселок Отшельнических Коттеджей, надо миновать Лес Охотников, Ставших Дичью, там слишком много засад и капканов. Да и Территорию Покинутых Женщин не пересечь без осложнений и пробуксовок: покинутые женщины требуют повышенного внимания, утешать их, не имея возможности разомкнуть их одиночество – только растравливать саднящие раны.
Приходилось ждать. И предаваться (с опасливым стыдом и нарастающим удовольствием) разлагающим чарам: выменивать, сбывать, приобретать строжайше неодобряемые (худшее надругательство над посмертным аскетизмом! ничем не оправданный материальный стимул!) брошечки, браслетики, стеклянные бусы, оловянные, каменные и медные статуэтки, пуговицы, гвозди, наперстки, нитки, иголки, открывашки для бутылок (они высоко котировались на местных толкучках), железные наконечники для стрел, пряжки, румяна, помаду, хну для волос, шпильки, заколки… Кооперируясь с сообщниками и сообщницами, Евфросинья доставляла ремесленникам-стеклодувам добытые у скифов, эвенков, египтян, индейцев племени майя и амазонских туземцев кустарные золотые расплющенные кружочки.
Наука выцыганивания (в этот термин Евфросинья не вкладывала плохого) и примазывание к момоне коммерции – страшно сказать: вблизи Чистилища и скопления Страшных Судов! – именно местонахождением под боком у Бога и удручали, потому давались натужно, хотя опыт торгашества был накоплен еще во время войны: товарообменничая, добывала продукты для больной матери. Однако, разгонный капитал, валюта (будем откровенны) упрощают в том числе и сыскные задачи: пустой карман – не союзник в воссоединении с близкими. Угнетающе позорны дыры на робе, стоптанные белые тапки, и – невозможность разжиться оловянным пугачом (для обороны от грабителей), но коль не можешь затратиться на душевно-родственные обязательства и преодоление одиночества – тогда и вовсе пиши «каюк»...
Убеждала себя: вещественная мелочевка-дребедень помогает умершим обвыкаться в непривычной бесплотности, трудно без сопровождавшей на протяжении бренного срока шелабуды, снабженчество – в этом ракурсе и преломлении – даже благородно! Но когда очередной мошеннически-мешочнический тур завершился (как и должен был, как должно было кончиться надругательство над беспорочностью) конфискацией позорной контрабанды, и отряд Кузьмы Самсонова препроводил сцапанных нарушителей за решетку, Евфросинья вздохнула с облегчением.
Кузьма Самсонов лично явился в тюрьму клеймить перебежчицу:
– Стыдобища! Передовая женщина, не бродяга, а связалась с рванью. Сам Лаврентий Палыч тебе благоволит… Нам бы всем на него равняться. А мы ловим тебя, штрейкбрехершу… Почему дала стрекача из моего орденоносного коллектива?
Евфросинья ответила:
– Прости…
Отчасти гордилась, что заключена под стражу вкупе с не ломающми перед конвоирами шапку цыганскими побратимами – не нужны головные уборы тем, кто един с природой: у медведей и зайчишек нет кепок и беретов, неподстриженные кучерявые волосы, промытые дождевыми струями, согретые солнцем, разметанные и всклокоченные (и обритые) – честнее сварганенных из чужого меха малахаев, ушанок и папах.
– Кому нужны кресала из керамзита? И наконечники для стрел? – серчал Кузьма. – Тянешь передовое общество в каменный век! Уж давно в ходу гаубицы, базуки, пулеметы.
Евфросинья объяснила:
– Наконечники копий и стрел используют в качестве грузил: снаряжаешь весточку вниз, а бумага сыреет во время полета (особенно, угодив под дождь), ее может унести ветер, тяжелое острие приземлит письмо прицельно и пришпилит к почве. Ну, а кресала высекают искру даже в заоблачной сырости…
Кузьма крякнул:
– Эк тебя разагитировали…
Его и наиболее отличившихся «заградотрядников» – за поимку обнаглевших рецидивистов – премировали дорогостоящим табаком. (Нещадному курильщику из штата Огайо в гроб положили вкупе с набором зажигалок ящик кубинских сигар). Кузьма теперь дымил не самокрутками из можжевельника, а настоящим горлодером.
Откупиться и замять шумное уголовное задержание цыганам не удалось. Падкие на вещественную мзду влиятельнык бонзы на этот раз отвергли взяточное подношение: слишком громкий резонанс вызвал арест. Квитками о штрафах скандал не ограничился.
Евфросинью вместе с подельниками доставили в суд, где она не постеснялась предъявить присяжным справку о количестве вознесенных на протяжении земного срока молитв. И собралась рассказать житие Серафима Сурожского, воспроизвести пару-тройку биографий художников группы «Бубновый валет», о них поведал ей Марк Шагал. Но обвинитель прервал сказительницу:
– Не морочь голову. Давай о себе.
Выложила, как на духу: родилась в старообрядческой семье, привыкла молиться восьмиугольному, похожему на снежинку, кресту, осеняла себя двумя перстами (как боярыня Морозова на известном полотне Ильи Репина), но однажды дедушка принес в избу бюстик Будды, вытесанный из осиновой колоды. В «копай-городе» за колючей проволокой – под влиянием изувеченного лагерными охранниками отца – ударилась в католичество, надрывно отец хрипел: «Коли православные так обошлись с моим семейством, не хочу быть с ними в общей вере». В плену у Берии вернулась к трезпалечной щепоти: на стене комнаты, из которой не выпускали, висели изображения Александра Невского и Дмитрия Донского. Остальной иконостас Лаврентия Павловича состоял сплошь из фотографий Сталина. После войны, уходя от партизан, встретила на проселочной дороге благообразного ксендза, он сказал: «Ох, и поломает тебе ребра нынешняя вера». Предостерег: «Окажешься в Москве, не ходи близ Лужников. Там Девичье поле, куда ордынцы сгоняли русских девушек – ну, прям как пленниц на съедение Минотавру, выбирали наложниц, увозили...».
Судьи не дали закончить:
– Шахрезада! Тыща и одна ночь! Уши вянут! За религиозные шатания – в котел с ртутью тебя!
Их ксендзофобия требовала опровержения. Евфросинья сказала:
– Цыгане из Индии. И Будда оттуда. Отсюда мои арабские сказки. А ксендз оказался прав: намяли мне бока за то, что вернулась к Николаю Угоднику…
– Религия для тебя, как магазин. – честили ее. – Приценилась, приобрела, не понравилось – отшвырнула. То же и в отряде: присягнула, а наскучило нести караул – сбежала в самоволку. Какому идолу или кресту в итоге поклоняешься?
Повторила миллион раз окосноязыченное:
– Отдала девочке Девочка лежала в больнице. Перед операцией по требованию врачей сняла колечки, браслетки и крестик, бижутерию положила в тумбочку, крестик спрятала в пластмассовую чехольчик-капсулу от бахил. После операции, проснувшись, забыла о крестике, выбросила капсулу. Я отдала ей свой.
Судьи зароптали, затопали:
– Немыслимо! Отдать святыню! А новой не обзавелась?
Призналась до донышка:
– Промышлением Господним удостоилась дивного крестика, и опять не убергла. Лишилась по собственной недалекости. Я и впрямь виновата.
Негодующий гвалт усилился.
– Еще бы!
Судьи заходились в неистовстве. Один, в длиннейшей мантии, схватился за сердце. Второй, в коротком жакете, сжал виски. Третий, в колпаке со звездчатым узором, шарахнул по столу кулачищем:
– Нет прощения! В генну ее!
Единодушно постановили:
– Без права обжалования!
Кузьма Самсонов и его бойцы (они сидели в первом ряду, строгие, без сигар и с винтовками) поддержали приговор, с лязгом передернув затворы. Пытался вмешаться прибежавший взмыленный Явился-не-Запылился:
– Наказывать не за что!
– Кто дал тебе право распускать язык? – взъелся прокурор.
Судейский синклит поддержал:
– Знай свое место, Явился-не-Запылился! Ты нам надоел хуже горькой редьки!
Повелели горе-защитнику убираться прочь. Евфросинья поблагодарила заступника:
– Зря себя «негодяем» и «мерзавцем» кличешь. Ты – хороший.
И окончательно упала духом. Уже видела себя обугленной головешкой (без сдабривающих, разумеется, масел) или ртутной каплей (не в термометре, а на пыльной дороге в преисподнюю), тут и приспел нежданный глашатый – с бородой, в усах и красной шелковой рубахе. Судьи притихли. И вежливо справились:
– Как сказала? Какую благодарность высокому нашему ареопагу вынесла?
И зачитали запоздало поступившие положительные данные, исподволь наталкивающие на мысль: Ефросинью не казнить надо, а поощрить – во-первых, не пожмотилась, пожертвовала девочке, боявшейся гнева родителей, свой крестик. Во-вторых, отдала ей крестик не простой, а имеющий славную историю! Защищающий от напастей всесторонне и стопроцентно! В-третьих, озеленяла (во время лагерного заключения) безжизненную казахстанскую степь. А параллельно (в-четвертых) подкармливала зайцев. Сама лишенная пропитания, заботилась о слабых и малых.
Евфросинья пробовала возразить:
– Доблести нет. В том, что отдала крестик. И кормила зайцев.
Судьи слушали невнимательно.
– Ты, Евфросинья, давно на пути к святости! Тебя, может статься, это в-пятых, признают дочерью Матроны Московской. В-шестых, не дала в обиду деревянного Будду. Выявила широту взглядов на божественную многополярность. – Судьи не скрывали охватившего их восторга: – Чудо: стать дочерью Матронушки! К Матронушке сам Сталин ездил консультироваться насчет победы над Гитлером.
Обнаружилось и главнейшее: если б не старания Евфросиньи, храм на пустыре, на благословенном Теплом Камне, не был бы воздвигнут:
– Москва в незапамятные годы еще не начинала строиться, а Камень уже лежал во чистом поле. Испокон веков он там находился и пребывал под особым небесным покровительством. На похожей глыбе утвердился памятник Петру Великому в Петербурге. Тот «гром-камень» был найден казенным крестьянином Вишняковым.
Кузьма Самсонов и его заградгвардия, выслушав экскурс, шумно поддержали высокий суд:
– Подвиг: сохранить Теплый Камень – плиту с отсветом созвездий! И в Москве имеется район Вешняки…
Прокурор заключил:
– Воздадим должное Евфросинье! В течение жизни столько успела! Все раздавала людям. Теперь за доброту должно ей воздать.
Постановили: наделить Евфросинью проездным сертификатом до Курортной Гавани. Ибо получившая крестик девочка стала там посудомойкой и ревностной прихожанкой. И не столь важно, что вскоре после того, как ей пожертвовали крестик, умерла.
Евфросинья поклонилась в пояс и просила помиловать цыган. Больше от волнения ничего вымолвить не могла. Ноги подкашивались. Какой-то мальчик вертелся возле нее.
Цыган отпустили на все четые стороны.
И вызвали пред светлы очи судейской коллегии ангела с испепеляющим взором – того, что допрашивал Евфросинью возле стен Монастыря по первоприбытию ее на небо.
– Тебе, такой-сякой, поручили приветить Евфросиньюшку, обеспечить ее одеждой и передать привет от значимого родственника, а ты?
Ангел тупил глаза-фары:
– Виноват. Загулял. Потерял счет ночам…
Ему влепили выговорешник.
Заступник Евфросиньи в красной рубахе – родной ее дедушка, Григорий Ефимович Распутин – обнял внучку. Оказалось: вертевшийся рядом мальчик был его сын, родной дядя Евфросиньи.
– Смерть его была тяжела, погиб в ссылке, – хмурился Распутин. – Я одарил его младенческим возрастом, чтоб забыл те ужасы…
Мальчик гладил племянницу по седым волосам. И рассказывал: пока Евфросинья искала на небе одноногого Федора, Распутин искал Евфросинью.
– Я не поняла насчет Матроны, – призналась Фрося. – Я – ее дочь?
– Можешь сделаться. Хлопочу об этом, – сказал дедуля Григорий. – Мои дочурки: твоя мама и ее сестра закончили дни трагически. Звали их Варвара и Матрона, бьюсь над тем, чтоб соединить их судьбы в одну.
– А что с коровой делать? – спросила Фрося.
– Какой коровой? – удивился Распутин.
– К ордеру на жилье приложена бумага: возвращают нашу Зорьку.
– Надо взять, – возликовал мальчик-дядя, сам похожий на доверчивого теленка.
Григорий Ефимович не разделил его воодушевление:
– Убийцы ищут меня. Чтоб доубить. Я вынужден скрываться. Прячусь в горах. Корова обременит. У тебя, Фрося, другая задача. –Григорий Ефимович с нежностью взглянул на внучку. – Судьи забыли основное. Крестик, случайно выброшенный девочкой… Его ведь надо найти, вызволить его из скопища мусора!
– Конечно! – спохватилась Евфросинья, удивляясь: почему сама об этом не подумала. – Негоже крестку валяться на свалке…
Распутин и его малолетний сынок-дядя попрощались с Фросей и покинули здание суда. А приданные Евфросинье ангелы препроводили ее к златокудрому охранителю загадочного Монастыря. Красавец прохаживался возле входа в обитель и поигрывал связкой ключей.
– Нет такого правила, что умершим на Пасху или в другие церковные праздники обеспечен рай, – завязал беседу он. – Потеряв близкого, люди ищут утешение, вот и придумывают контрамарки с надписью «свободный вход в парадиз». Невозможны такие пропуска, как и бесконтрольное посещение Монастыря.
И, взглянув на запертые ворота, их не отомкнул. А подверг Евфросинью дальнейшим расспросам. Она безыскусно отвечала: ксендз, встреченный на проселочной дороге, завещал беречь Теплый Камень. «Захотят это каменное плато распилить или взорвать – не позволяй. Построишь на Камне храм, и вера пребудет вовеки».
«Как я, слабая женщина, построю храм?» – пролепетала Ефросинья.
«Бог даст силы», – ответствовал старец.
Омывала камень, отскабливала от копоти и надписей – сперва легкомысленных: «Таня+Миша=любовь», «Здесь был Витя», но с течением времени пишущие ожесточились: «Будьте прокляты, сволочи!»… За отскабливанием и застал Евфросинью вновь явившийся старичок. Он был в пурпурном кришнаитском халате.
«Надписи – полбеды. Собираются Камень перемолоть в щебень, щебенку закатать асфальтом, на асфальтовой площадке поставить пивную. Спеши к патриарху!».
Патриарх ее обласкал: «Хорошо, что известила. Давно хочу возвести в той местности часовню».
Развернулось строительство – не на Теплом Камне, а близ соседних прудов.
«Рядом с пляжем?» – противилась Евфросинья.
«Попутно будут молиться», – успокаивал патриарх.
Старичок явился Евфросинье в одежде муфтия:
«Зато Камень цел. Не отступай, – напутствовал он Евфросинью. – Найди Пинхаса Фиалковского, с ним продолжишь начатое».
И снабдил рисунком будущего собора.
«Два храма рядом?» – усомнилась она.
Ключник внимал рассказу Евфросиньи с преогромным интересом, было видно: ему близка тема строительства храма на камне. Он сказал:
– Пусть хоть три собора, получится складень, хоть шесть, получится магендовид, хоть двенадцать – по числу апостолов. Кашу маслом не испортишь. Тех церквей, что разрушены, не восполнит даже сотня новоделов. Господня Копилка жаждет пролиться церквовсхожими ливнями.
Лик апостола казался Евфросинье уж очень знакомым. И не потому, что созерцала его на иконах.
– Вы, случайно, не бывали в гостях у министра Хейфеца, где служила прислугой? – отважилась поинтересоваться она.
Апостол неодобрительно качнул нимбом.
– Не в ту сторону мыслишь! Христос воздвиг храм на мне, а я помог архитектору Этьену Фальконе воздвигнуть памятник царю Петру Первому, змею под ногами коня отлил из металла Федор Гордеев. Все взаимосвязано: крестьянин Вишняков и район Вешняки. Гром-камень и Теплый Камень. В пещере похоронили Христа, а нашли Андрюшу Ющинского. Это надо уяснить, если хочешь сдать экзамен по причинно-следственным сопряжениям.
– Тот, кого ищу, тоже носит имя Федор! – оторопела Евфросинья. – И впрямь совпадает! Как мне его разыскать?
– Ищешь крестик, а, значит, Бога. Но бывает: ищем кого-то или что-то, а находим себя, – назидательно произнес красавец. И вернул Евфросинью в ТеплоКаменную эпоху. – Уставала на заводе?
Она вспомнила, как зимой шла мимо Новодевичьего монастыря по железнодорожному мосту, перекинутому через Москва-реку – не было еще ни метро «Спортивная», ни Филевской линии подземки – и вдруг завыли сирены, извещая о бомбежке.
Апостол, прислушиваясь к ее оторопи и воющим сигналам тревоги, не мог удержаться от замечания:
– Здоровое было поколение. Потому что ходили пешком… И недоедание на пользу.
Ночевала в цеху: фронту были нужны снаряды. Кормили раз в день. Делилась баландой с подругой, та увозила варево в бидоне своим детишкам. У Евфросиньи семьи не было.
После войны, прибыв из партизанского отряда, наведалась на родное предприятие. Завод Хруничева обрел новый статус: производил лыжи и детские санки, их отгружали в открытые кузова пятитонок и рассредоточивали по торговым точкам. А через другие ворота тайно везли под брезентом ракеты…
Апостол заскучал. И, сославшись на занятость, свернул разговор.
– Не хочу про войну. Надоело. Все ее боятся, а не предпринимают ничего, чтоб предотвратить. Если жахнет – будет не планета, а сплошная Хиросима. Когда б не подвиг Тарахтуна, от Японии песчинки бы не осталось. На построенные церкви вся надежда!
Удаляясь, он прощально шелестел легкой туникой.
По ходатайству добрейших судей Евфросинье предоставили избенку – такую, как близ Рязани, где прятала и выхаживала болеющую маму, только мамин домик стоял на лесной опушке, а небесный – на краю аккуратного лужка: немаловажная предусмотрительность, ведь в придачу к ордеру на получение коровы Евфросинью осчастливили сертификатом возврата лошади. Лужок мог служить выпасом.
– У нас по справедливости», – хвастали ангелы, вручая обладательнице имущества необходимые бумаги.
– Мне бы попугайчиков, – не переставая дивиться приливу детско-собственнических начал, задралась она.
– Не по нашей части, – уже не столь любезно отшили ее. – Это в Зверинец Минотавра, Лунный Цирк или Зодиакальный Зоопарк.
Что ж, предстоял поиск – своего и девочкиного крестиков и неведомо куда зашвырнутых Федора, мамы, бабушки, попугайчиков.
(Конец первой книги. Продолжение следует.)
Предыдущие части романа читайте здесь
Продолжаем публикацию романа Андрея Яхонтова «Божья Копилка». Сегодня — заключительная часть первой книги. О чём в ней речь? Возможно, вам небезынтересно узнать, как происходят на небе предварительные, предшествующие Страшному (или всё же не очень страшному) Суду разбирательства, по каким критериям облаченные в мантии беспристрастные (или всё же весьма пристрастные) взвешивальщики проступков выносят вердикты и назначают наказание или безоговорочно прощают грешников. Тогда не запирайте своё любопытство в долгий ящик, а окунайтесь в атмосферу выволакивания на свет тайных деяний и помыслов тех, кто предстал перед строгими (или щадящими) помощниками Всевышнего. МУЗЕЙ ГРОБОВ В Вену Петр Былеев прибыл с твердым намерением: воздать, как обещал музыкальной парочке, должное Моцарту и разыскать конгресс социалистов – о нем трубили газеты – на сборище мог присутствовать непунктуальный революционер, стребовать с него ладанку стало делом принципа. Путеводители извещали: фамильная усыпальница Моцартов находится в Зальцбурге (памятник в Вене не таит под собой телесных останков и лишь формально удостоверяет принадлежность гения австрийской столице), однако, и посещение провинциального захоронения представало – как бы точнее выразиться? – безадресным: тело в склепе отсутствовало, череп Иоганна Вольфганга Теофила, полнившийся симфонической многоголосицей, обнаружили (Петр смутно помнил, об этом говорилось в глянцевой программке салонного концерта у Олениной Д,Альгейм – Петр посещал эти оперные московские вечера вместе с сестрами) при раскопках кладбища Святого Марка в предместье Вены. Ограничиться преподнесением букета пустоте казалось недостойным автора бессмертного «Реквиема». Еще один справочник, купленный Петром в привокзальной толчее, дополнил сумятицу: «Череп, обретенный при разгребании окраинного погоста, принадлежит не Моцарту, а неверной ему супруге. Сам величайший композитор (и вертопрах), угасший в расцвете сил, предан земле в присыпанной негашеной известью чумной яме; обозначений над насыпью не сделали – потому захоронение потерялось». Где же покоились подлинные мощи? Бывает, кумиров (согласно их прихоти или по приказу устроителей траурных бдений) расчленяют после кончины (хорощо, что не прижизненно) и рассредоточивают: сердце заключают в запаянный (не для питья предназначенный) кубок, обессердеченное туловище делят на фрагменты и распределяют по всемирно известным некрополям, храмам и прочим очагам цивилизации (дабы обитающие в отдалении от центров культуры почитатели прекрасного не ощущали своей отринутости) или сжигают, а пепел опять-таки развеивают; говорят, в приобщительно-просветительских целях рассечены поэты Бернс, Байрон, Гете, Гейне (кто-то из них так и озаглавил стихотворение: «В горах мое сердце!»). По утверждению Распутина подобная участь постигнет борца за независимость Польши гетмана Пилсудского. Имя и лик превращенного в идола непонятно где зарытого национального исполина – вдохновенного победителя вечности! – тиражировались еще и пошловатыми названиями магазинов и кафе, дробились фантиками конфет и обложками меню, навязчиво толпились портретами и разнокалиберными сувенирными фигурками в безделушечных лавчонках… Трупное окостенение плохо вяжется с суетливым всеуспеянием (и непоседливым возлежанием на нескольких погостах), но не автор порхающе веселых севильско-цирюльничьих напевов и ввергающих в содрогание панихидных аккордов выступал самопопуляризатором, а вездесущие руководствующиеся сугубо прагматическими, арифметическими, политическими, а никак не трепетными эстетическими мотивами созидатели (или грубые исказители?) гордости за отечество, взрастившее выдающегося сына, – чем больше прямых и косвенных дифирамбов воскурено, тем надежнее закрепится панегирический образ-стереотип в сознании сограждан – в данном случае остеррейховских! Увы, неустанно внедряемые восхваляльщиками панегирики способны не только олегендировать, но и раздражить… Петр думал: «Нужны не пьедесталы – каменные и конфетные, не выспренние монументы – над подразумеваемыми костями (тех, кому в реальности приходилось не конфетно и не памятниково: нищета, насмешки, пренебрежение – Пушкина, как и Моцарта, не обласкивали и похоронили без пиетета) – нужна прижизненная щадящесть и нетравля на протяжении плодотворных лет, а запоздалые эпитафии, натыканные всюду гротескные чучела и множащиеся по-кроличьи литографски-кучерявые приукрашивания, напротив, отторгают… Неужели, чтоб получить признание, надо сгинуть в чумном бараке, сгнить от бубонной чумы, как Перси Биши Шелли или Глеб Иванович Успенский, быть сброшенным в могилу вилами или с развороченным пулей животом?». Завтракая в кафе «Централь» (на десерт были предложены марципан «Моцарт» и штрудель «Амадеус»), Петр прочитал в перепечатанной из русской газеты статье – о застреленном в Киеве Столыпине и удручился: «Зачем я уехал? Кто защитит сестер, маму, отца?». На той же странице бросилось в глаза объявление: «Истолковываю сны, гадаю по циферблатам часов и линиям на правой ладони. Отыскиваю пропавшие предметы. Мастер психоанализа Зигмунд Фрейд». «Что за чушь? Как можно гадать по циферблатам? И почему именно правая ладонь?» – вскользь отметил Петр. Впрочем, зазывное набранное крупным шрифтом ухищрение быстро забылось, Петр увлекся дуэлью официанта и осы, которую тот норовил прибить свернутой в трубочку салфеткой. Полосатое насекомое жужжало, уворачивалось, колотилось в оконное стекло – непостижимую преграду, мешавшую прорваться к зеленеющим в палисаднике (а не в глиняных, внутри зала расставленных горшках) деревцам. Зияла лазейка – открытая форточка, пленнице, чтобы достичь отдушины, надо было проползти по перекрестью рамы, но оса воспринимала его помехой, а не прожилкой к спасению и не улавливала притока воздуха. Иллюзия доступа к приволью заставляла ее все отчаяннее стучаться лбом в прозрачную неодолимость. Петр распахнул окно, выпустил полосатку, заплатил по счету (из похудевшего конверта: деньги катастрофически таяли, приходилось раскошеливаться – на проезд, гостиницу, еду) и зашагал по гладко отполированному многими подошвами каменному тротуару. Грабен штрассе (Гробовая улица) подсуропила очередную (в знакомом стиле) заманку – приклеенную к фонарному столбу чертвертушку бумажного листа: «Предсказываю судьбу, ищу пропажи, истолковываю сновидения. Профессор медицины Зигмунд Фрейд». Опосредованно, по касательной, Петр взмечтал: вот бы зазывщик отыскал – ладанку… Чумная колонна – с золоченной костлявой фигурой Болезни на верхотуре – и вывеска «Музейная экспозиция гробов» застопорили прогулку: витрина полнилась обитыми серебристой парчой продолговатыми ящиками, слюдяно побескивали глазетовые венки и искусственные цветочные гирлянды, мрачно застыли муляжи обелисков, похоронные чепчики рыбьи дышали жаберными оборочками, пиджаки и платья состязались декольтированностью вырезов (не на груди, а на спине). Прыщаво-холмистая россыпь черных угреватых подушечек, шляп, цилиндров напомнила об антиевропейских речениях крестного отца, Кирилла: Старый Свет охвачен гибельной манией – заменяет лошадей автомобилями, театральных актеров – кинолентой, аромат душистых трав – одеколоном, лесные чащи – изображениями рощ и дубрав на открытках. Катехизис агонии панихидит империю Габсбургов – ее могильщик, «механизатор Смерти» (назвал его Григорий Распутин), антихрист-преемник инициатора Первой войны Франца-Иосифа (отточившего практику умерщвления на своих сыне, жене, племяннике, невестке) явится из приграничного с Германией городка Браунау и развяжет Вторую всемирную потасовку, усовершенствует человекоистребление до конвейерной безостановочности. Парк Пратер кишел статистами, замерше изображавшими бронзовые и мраморные изваяния – оскаленной Чумы и цепенящей Старухи с остро отточенной косой. Бродили и отдельные напудренные до трупной белизны жертвы пожинающей несметные урожаи Всегибельности: казненная на французском троне австрийская принцесса Мария-Антуанетта, потянувшая за собой под гильотинный нож супруга – Людовика ХVI, и равная ей авантюристка – Мария-Луиза, дочь Франциска Австрийского, ставшая супругой Наполеона и подвигшая его завоевать Россию. В ведерки, поставленные перед недвижными и инфернально фланирующими фигурами, публика бросала монетки. Дань незримому Харону. Не соблазнившись обозреть Вену с высоты птичьего полета –для этого следовало абонировать привешенную к гигантскому колесу металлическую кабину (в России такие аттракционы прямо называют «чертовыми»), Петр купил у голубоглазой румяной цветочницы букет глициний и углубился в тишь начинавшегося прямо посреди шумного столпотворения кладбища. Вскоре он наткнулся на шеренгу статуй: Шуберт, Брамс, отец и сын Штраусы, и, разумеется, франтоватый, смахивающий на вертлявого Фигаро Моцарт. – В грош нас не ставит! – зашушукались памятники, когда Петр возложил цветы. – На всех – не охапку, а тощий веничек! С соседней аллеи придвинулся замшелый, источенный дождями Бетховен и устыдил на шепелявом (видимо, зубы тоже крошились) немецком: – Каждому положен отдельный венок. Петр изготовился дать деру. Но уперся спиной и пересчитал лопатками шершавые штыри помогшего устоять (ноги подгибались) могильного ограждения. В порывах ветра чудились аккорды «Апассионаты». С деревьев крупными слитками сыпались желтые листья. Общим далеким нимбом вращалось над громыхавшими каменными колоссами громадное чертово колесо. Ну и парк, то есть погст! Больше, чем московский, он заслуживал зваться Нескучным! Памятники держались не враждебно. – Отправь письмо Виссариону Петровичу! Он волнуется о тебе. Передай привет от нас, посвятивших себя благородному сочинительству – месс и хоралов, – сказал Штраус-отец. – Пусть папа не губит себя ради царя, – поддержал предка младший Штраус. – И ты себя не губи. Брамс предостерег: – Не спеши в Россию. Здесь лучше. Петр, судорожно сглотнув, пообещал: – Я принесу вам еще цветов… Много цветов. И устремился прочь. Вслед ему неслось: – Не связывайся с неудачниками! Неудачники приносят несчастья! На пути возник старик в бархатном камзоле и берете с